ТЕОРИЯ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА
Главные вкладки
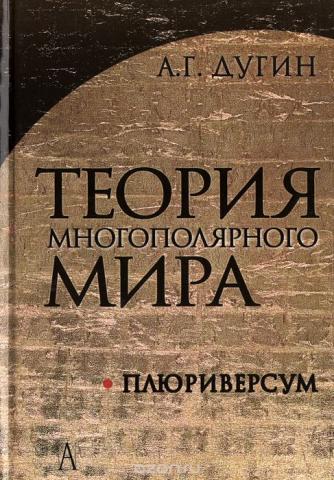
А.Г. Дугин
ТЕОРИЯ
МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА
Плюриверсум
Допущено Учебнометодическим объединением по классическому университетскому образованию к изданию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению 040200 — Социология
«Академический проект»
Москва, 2015
УДК 32.001
ББК 66.0
Д 80
Печатается по решению кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Рецензенты:
Э.Ф. Попов, доктор политических наук;
Т.В. Беспалова, доктор философских наук
Научный редактор:
Н.В. Мелентьева, кандидат философских наук
Дугин А.Г.
Теория Многополярного Мира. Плюриверсум: Учебное пособие для вузов. — М.: Академический проект, 2015. — 349 с. — (Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-1754-2
Данная работа представляет собой сочетание трех подходов.
1. Обзор феноменов и процессов, определяющих структуры и системные изменения современности в области Международных Отношений и геополитики. Дается описание разнообразных сторон глобализации, однополярности, трансформаций и транзитивных изменений, затрагивающих страны, цивилизации, общества.
2. Построение полноценной Теории Многополярного Мира, что включает систематизацию концептов, конструирование общего когерентного поля, в котором они структурно располагаются, выведение законов, правил и субъектов каждой исследуемой области. Важно, что Теория Многополярного Мира строится в соответствии со строгими законами дисциплины Международных Отношений — в прямой привязке к ее методам, терминам, школам и теориям.
3. Геополитическая часть, которая строится по принципу глубинной геополитики, где философский и культурологический, цивилизационный анализ дополняет и обосновывает политико-стратегические аспекты. Геополитика сама по себе оперирует с очень высоким уровнем синтеза, что проявляется в чрезвычайно сложной и многоуровневой природе геополитических концептов, включающих в себя сразу много слоев — географию, историю, политическую науку, экономику, культуру, язык, демографию, климат, этнос, религию и т. д.
Издание адресуется студентам-гуманитариям, философам, социологам, политологам, а также всем тем, кто следит за новейшими тенденциями в гуманитарной науке.
Д 80
ISBN 97858291-1754-2
© Дугин А.Г., 2015
© Оригиналмакет, оформление. «Академический проект», 2015
УДК 32.001
ББК 66.0
Введение
Данная работа представляет собой сочетание в едином целом трех подходов: это одновременно — анализ, теория и проект.
Аналитически это обзор феноменов и процессов, определяющих структуры и системные изменения современности в области Международных Отношений и геополитики. Дается описание разнообразных сторон глобализации, однополярности, трансформаций и транзитивных изменений, затрагивающих страны, цивилизации, общества и влияющих на баланс сил и саму модель мироустройства. Это аналитическое поле служит феноменологическим фоном для системных обобщений, вводит основные концепты, выявляет контексты и выделяет узловые проблемы современности.
Второй срез данной работы представляет собой построение полноценной Теории Многополярного Мира, что включает систематизацию концептов, конструирование общего когерентного поля, в котором они структурно располагаются, выведение законов, правил и субъектов каждой исследуемой области. Это наиболее значимая часть, которая позволяет возвести аналитические наблюдения в системную теорию, имеющую автономное значение, что позволяет ее развивать, расширять и уточнять в дальнейшем, применяя к разнообразным массивам фактов и явлений и через обратную связь корректируя или верифицируя те или иные ее положения.
Важно, что во второй части данной книги Теория Многополярного Мира строится в соответствии со строгими законами дисциплины Международных Отношений — в прямой привязке к ее методам, терминам, школам и теориям. Таким образом, она становится интегральной частью научного поля в строгом соответствии с эпистемологическими принципами, принятыми в этой области. Эта часть может быть взята в отрыве от проективной составляющей и рассматриваться в строго отвлеченном от исторической конкретики и политического позиционирования ключе.
Теория Многополярного Мира дополняется в третьей части геополитической частью, которая строится по принципу глубинной геополитики, где философский и культурологический, цивилизационный анализ дополняет и обосновывает политико-стратегические аспекты. Геополитика сама по себе оперирует с очень высоким уровнем синтеза, что проявляется в чрезвычайно сложной и многоуровневой природе геополитических концептов, включающих в себя сразу много слоев — географию, историю, политическую науку, экономику, культуру, язык, демографию, климат, этнос, религию и т. д. Чаще всего геополитические обзоры, построенные имплицитно на таком синтезе, слабо рефлектируют всю философскую глубину и все дифференциалы терминов и понятий, с которыми они привычно оперируют, порождая многочисленные упреки в синкретичности геополитики как науки. На самом деле это впечатление обманчиво, поскольку геополитика сама по себе представляет очень высокий уровень философского синтеза, а ее инструментарий и методологии коренятся в целом ряде сопутствующих дисциплин, вступающих в продуманный и систематизированный диалог друг с другом. Примером такого философского толкования геополитики может являться классический труд Карла Шмитта «Земля и Море»1. В этом же ключе представлена геополитика и нашей ранней работе «Основы геополитики»2. Поэтому Геополитика Многополярного Мира содержит в себе помимо стратегического философско-цивилизационное содержание.
Более полно плюрализм цивилизаций разбирается нами в новой работе — в пятитомнике «Ноомахия»3, где обоснование самобытных и самостоятельных Логосов у различных цивилизаций прослеживается детально и дифференцированно. Весь проект «Ноомахия» может рассматриваться как развернутое историко-философское и культурологическое обоснование многополярности и плюрализма культур.
И наконец, мы вполне можем рассматривать данную работу как проект. В этом смысле он и носит имя «Плюриверсум» как название для возможного, но пока не ставшего действительным миропорядка, построенного на принципах, прямо противоположных глобализму, либерализму и евроцентричному колониальному империалистическому универсализму. Плюриверсум — это одновременно и феноменология (ведь, по К. Шмитту, область Политического всегда плюриверсальна), и теория (так как плюриверсальность возводится здесь в норматив и закон), и проект, так как доминирующий сегодня однополярный либеральный тренд направлен жестко против самой идеи Плюриверсума, а значит, путь к Плюриверсуму, к созданию многополярного мирового порядка есть моральный и этический императив, борьба и поле активного глобального (но антиглобалистского!) праксиса.
Данный труд не ставит перед собой цели доказать, что Россия представляет собой самостоятельную цивилизацию, нуждающуюся в утверждении, защите и сохранении перед лицом десуверенизации и исчезновения в глобальном однополярном (или бесполярном) мире. Это является для автора аксиомой, из которой он изначально исходит. Аргументы в пользу именно такого понимания сущности России и русской (евразийской) цивилизации в целом приведены и систематизированы в других наших работах. Здесь же мы рассматриваем вопрос о том, как самобытной русской цивилизации найти свое место в глобальном контексте XXI века и каким должен быть тот миропорядок, который даст России эту возможность, позволяя свободно раскрыть огромный потенциал великого русского народа.
Этот порядок может быть только многополярным, то есть Плюриверсумом. И наша цель его построить и отстоять.
Часть 1. Плюриверсум и конец «однополярного момента»
Плюриверсум
Плюриверсум как основа Политического
Концепт «плюриверсум» был введен Карлом Шмиттом (1888–1985) в его работе «Политическая теология»1 в 1932 году. В этом концепте состоит сущность представления Шмитта о природе Политического. Дословно он пишет: «Из собственной характеристики понятия Политического вытекает плюрализм мира Государств. Политическая единица полагает реальную возможность врага и вместе с этим существование иной коэкзистирующей единицы. Поэтому, если на земле существует хотя бы одно Государство, обязательно будут существовать и другие, а единого, охватывающего все человечество и всю землю Государства существовать не может. Политический мир — это плюриверсум, а не универсум».
Такой вывод Шмитт делает из своего базового определения Политического: «Специфически политическое разделение, на котором основаны политические действия и мотивации, это разделение на друга и врага».
Пара amicus/hostis (друг/враг) является конститутивной именно для области Политического, так как основывается не на религиозных взглядах, не на врожденных установках, а на рассудочной оценке ситуации и волевом решении. Друг/враг определяются ситуативно, и этим данная пара отличается от других дихотомий — религиозных (бог/дьявол), моральных (добро/зло), видовых (человек/животное), гендерных (мужчина/женщина) и т. д. При этом специфика фигур врага и друга состоит в том, что они могут теоретически меняться местами: враг и друг определяются в конкретных обстоятельствах и само это определение есть конститутивный фактор Политического. Кто друг, а кто враг — никогда не бывает полностью очевидно. Это вопрос суверенного решения, от которого зависит вся структура Политического как такового. Политика начинается только после того, как эта пара построена. И это касается как внутренней политики, так и внешней.
Распределение ролей друг/враг требует существования той инстанции, которая может быть наделена этими признаками. А для этого она должна быть конституированной таким же образом: то есть быть носителем суверенной воли, разума и способности к решению. Определение того, кто враг, а кто друг, всегда обоюдно — это предполагает симметричный жест со стороны другого. Причем это другое должно быть способно в свою очередь определять друга и врага и действовать соответственно. То есть Политическое предполагает в своих основаниях наличие другого как политически Другого. Любая политическая единица является самой собой только при наличии сосуществующей (строго — коэкзистирующей) политической единицы. И вражда и дружба являются обоюдными и ситуативными, то есть в их определение входит возможность изменения статуса в тех или иных обстоятельствах. В области религии, морали, видов или полов такое действие невозможно: добро не может стать злом, человек — животным или наоборот, здесь дихотомия дана как неснимаемая данность, не зависящая от воли и обстоятельств. Политика же вся строится по окказионалистскому принципу: друг и враг всегда ситуативны, конкретны, строго привязаны к определенному пространству и времени, а также к конкретной политической форме, выступающей как субъект Политического.
Отсюда и фундаментальный вывод всей шмиттианской политологии: политика плюриверсальна по своей природе, предполагает наличие плюриверсума как фундаментального условия своего наличия. Поэтому вместо универсальности Политическое всегда представлено как нечто региональное, локальное, как конкретный порядок и ситуативная форма. Единственным универсальным правилом в Политическом является отсутствие какой бы то ни было универсальности за пределом конкретной политической формы, единицы, структуры.
Это принцип плюриверсальности применим к политике во всех ее измерениях. Так, во внутренней политике Политическим является только определение внутренних сил как дружественных или враждебных. Это касается партий, классов, сословий, династических групп, религиозных течений, социальных страт, экономических кругов, лобби и т. д. Субгосударственная единица является политической только тогда, когда четко определяет свое отношение к другим единицам именно по этому критерию. Но по отношению к обобщающей политической форме, точке суверенитета (Правителю или Правительству) эти политические единицы нормативно нейтральны, так как все они зависят от данной модели политического порядка перед лицом внешней политики. В точке суверенитета, представленного вершиной политической формы (Государства), происходит контакт внутренней политики с внешней политикой. Здесь все внутриполитические противоречия снимаются, и начинается совершенно иная организация Политического — выявление пары друг/враг уже для всего Государства, где внутренние политические составляющие взяты как интегральные части целого. В теории Государства и права, которому Шмитт уделял огромное значение, эти процессы строго разделены: отношения друг/враг во внутренней политике заканчиваются в отношении инстанции суверенитета, для которой нет и не может быть друга или врага внутри Государства, равно как и обратное, Государство не может быть другом или врагом какой-то своей части. Перед лицом пары друг/враг во внешней политике все политические субгосударственные единицы представляют собой единое целое, то есть Порядок (или региональную универсальность). Суверенитет и принятое сувереном Решение (Entscheidung) трансцендентно в отношении всех частей Государства и не допускает оценок по шкале друг/враг. Последствие Решения о выборе врага/друга во внешней политике является обязательным законом для всего Государства, так как при переходе от внутренней политики к внешней меняется субъект Решения — он смещается от субгосударственной единицы к собственно Государству. На практике это бывает не так, но в этом случае нарушается политика форм и структуры функционирования «прямой власти» (potestas directa). В любом случае для самого наличия Политического необходим плюриверсум, в пространстве которого другой может быть определен как друг или враг.
Этот принцип, даже без учета нарушения правил прямой власти, позволяет концептуализировать политический дифференциал во внутренней политике (в зависимости от структуры конкретной политической формы), а во внешней политике обосновывает классический реализм в Международных Отношениях, настаивающий на абсолютности суверенитета и анархии международной политики. Отрицание Шмиттом «мирового Государства», отказ такому проекту в политическом измерении (а Государство и есть зона Политического) является классическим моментом полемики между реалистами и либералами в Международных Отношениях, среди которых Шмитт был одним из наиболее последовательных и основательных реалистов.
Итак, плюриверсум есть необходимое условие для существования Политического. Универсализм же возможен лишь в границах конкретной политейи, как региональная цельность, форма, локальный порядок, имеющие строго определенные историко-географические параметры. Политический Порядок всегда вписан во время и в пространство. Его субъект формализован в структуре власти, институтах, идеологии и т. д. Поэтому локальная универсальность любого Порядка ограничена столь же локальной универсальностью другого Порядка — неважно, сходного или отличного по основным параметрам. Поэтому теоретически вражда может быть как между полярными политическими силами (Государствами), так и между сходными или почти тождественными.
Масштабирование политей
Плюриверсальная природа Политического является абсолютным его свойством и распространяется на любое масштабирование политики. Концепт Политического (das Politische) для Шмитта не содержит в себе однозначной привязки к масштабности и стоит ближе всего к греческому термину πολιτεία, политейя, в том смысле, в каком его использовал Платон. Политейя может относиться к подгосударственной или к догосударственной единице — к области, городу, орде и т. д. Но может и к самому Государству. В предельном случае она может описывать совокупность Государств, объединенных в Империю или блок с общим стратегическим управлением. Для формальной политической науки можно ввести три условных уровня масштабирования политейи — малая политейя, средняя политейя и большая политейя. Средняя политейя — это Государство, вариантом которого является формальное Государство Нового времени. Все подгосударственное совокупно образует плюриверсум малых политей, которые становятся локальным универсумом (Порядком), когда средняя политейя приходит в соприкосновение с другой — средней — политейей. И самым крайним случаем является объединение нескольких средних политей в большую политейю или в ойкумену.
Закон плюриверсума действует на всех уровнях — на малом, среднем и большом. Но вместе с тем он имеет свой предел в следующем уровне, который является политической трансценденцией для данного уровня. Эта трансценденция необязательна, ее теоретически может и не быть. Малые политейи, например, могут входить в состав средней политейи (Государства), а могут не входить — как города-Государства Древней Эллады. Локальная универсальность возможна, но не необходима. Точно так же средние политейи могут быть строго плюриверсальны, если они не объединены в Империю, а могут быть составными частями ойкумены, как, например, в эпоху западноевропейского Средневековья, где общим знаменателем был Рим. И лишь в отношении большой политейи плюриверсальность является абсолютной, так как в этом случае под вопросом оказывается сущность Политического — если бы большие политейи имели над собой глобальную и всеобщую (а не локальную) универсальность, то они бы не были политическими вообще, а следовательно, не были бы политейями — ни Государствами, ни Империями. Империя, как и Государство, может быть собственно Империей, то есть политическим образованием, большой политейей, только если рядом с ней существуют другие Империи. Империя есть максимализация политического универсализма, но чтобы он оставался политическим, он должен оставаться локальным, то есть ограниченным симметричной политической единицей. Отсюда строгий закон политической науки: Империя может существовать только в том случае, если существует другая Империя, в отношении которой возможно применить определение друг/враг.
Большое пространство, права народов
и новые Империи
Неудивительно, что Карл Шмитт уделил проблеме Империи особое внимание. Он не только относит принцип Империи к особому типу «политической теологии», отражающей на политическом уровне католическую модель религии, но и теоретизирует процессы ее образования и обретения ей правового статуса. Эту тему он развивает в теории «больших пространств» (Großraum) и «прав народов» (Völkerrecht)2. Права народов мыслятся Шмиттом как выражение принципа плюриверсума применительно к концепту «народа» (Volk). «Народ», по Шмитту, это то, что составляет содержание политейи. Сам народ еще не относится к Политическому, но образует собой основание для Политического. Поэтому на него распространяется основной закон Политического — плюриверсальность. Поэтому там, где есть народ, обязательно есть другой народ. Следовательно, в структуре права у народа должно быть свое законное место. Народ есть создатель Политического, его творец. Народ не всегда полностью совпадает с политейей, поэтому линия народ — политейя создает особый срез Политического, а диалектика отношений между народами усложняет — в том числе и концептуально — отношения между политейями (в частности, между Государствами). Один и тот же народ может находиться в составе разных политей, а внутри одной политейи может соседствовать с другим народом. Именно это и требует концептуализации народа и народов в структуре Политического.
Империя, по Шмитту, это самая большая политейя из возможных. И основана она на максимализации развертывания творческой мощи народа или народов. Империя строится через грандиозный подъем какого-то одного народа, способного политически интегрировать и увлечь за собой другие народы. Это последний горизонт конкретной универсальности. Народ или народы, созидающие Империю, созидают структуру максимального порядка. Этот имперский порядок, прежде чем стать политической и, соответственно, юридической реальностью, то есть полноценным концептом, оформляется через промежуточную инстанцию, регулирующую отношение имперостроительного народа (или народов) с пространством. Это Шмитт называет «преконцептом», то есть еще не правовой инстанцией, но уже ее подготовкой. Народ готовит Империю (большую политейю) через фактор пространства. Это порождает еще одну реальность — «большое пространство» (Grossraum), которое Шмитт осмысляет как этап на пути к финальному жесту — построению Империи.
«Большое пространство» — это зона активного утверждения народом своей культурно-мировоззренческой когезии, связности, что проявляется множеством способов — распространение языка, обычаев, нравов, типовых практик, экономических связей, стилей, до прямого территориального объединения или завоевания. В одних случаях в формировании «большого пространства» решающую роль играют культурные факторы, в других — экономические, в третьих — военные. Но в любом случае «большое пространство» становится через какой-то промежуток времени относительно однородным, с общей стилевой доминантой, что подготавливает последний аккорд — политическое оформление «большого пространства» в Империю, переход от преконцепта к концепту, появление формализованной большой политейи.
В этом случае Политическое достигает максимального объема, выходя на последний горизонт суверенитета. Но поскольку Политическое основано на плюриверсуме, эта суверенность возможна только перед лицом других суверенностей. Поэтому «большое пространство» логически вызывает к жизни другое «большое пространство» или сразу несколько. В пределе все жизненное пространство народов должно быть организовано по принципу «больших пространств», что, по Шмитту, и составляет «четвертый номос Земли».
Первый номос3 (то есть форма политической организации пространства) заключался в Средневековом порядке. Этот номос представлял собой сочетание всех трех типов политейи — от малой через среднюю (в ее премодернистской версии Государств и княжеств) вплоть до большой (католическая ойкумена и германские Империи от гибеллинов до Австро-Венгрии).
Второй — в появлении национальных Государств в Европе Нового времени. Здесь за норму после заключения Версальского мира, завершившего Тридцатилетнюю войну, была взята средняя политейя, основанная на жестком отрицании юридического статуса как малых политей (автономных подгосударственных образований и собственно народов), так и большой политейи (Империи). Это породило феномен нации, основанной на индивидуальном членстве.
Третий — в двухполюсной системе блоков эпохи «холодной войны». Здесь человечество разделилось на два «больших пространства» по политико-экономическому и идеологическому признаку. Лагеря — капиталистический и социалистический — представляли собой потенциальные «большие политейи», но на их преконцептуальной стадии, так как Вестфальский принцип второго номоса Земли, то есть канонизация средней политейи с индивидуальным гражданством (нации) не был формально упразднен.
Четвертый, относимый Шмиттом в будущее, должен наступить после конца двуполярного мира. Этот «четвертый номос Земли» логически должен выражать собой кульминацию Политического как совершенного плюриверсума и районировать территорию человечества через совокупность суверенных «больших пространств», новых Империй. Так политические возможности, заложенные в народах, достигнут своей полной и совершенной реализации. В этом случае большие политейи будут в свою очередь канонизированы в структуре международного права, перейдя от уровня преконцептов к полноценным концептам, к концептам Империй.
Критика либерализма и четвертый номос
Огромным значением обладает критика Шмиттом либеральной идеи Мирового Государства (Weltstaat), которая основана на «конце истории» и на полной смене «политики» «экономикой». По Шмитту, этот проект, будучи подвергнут тщательному политологическому анализу, может означать одно из двух:
• либо новую форму политического империализма, когда одна из конкретных политических единиц (одна из политей), прикрываясь универсальным концептом «Единого Мира», навязывает свою конкретную гегемонию, а «открытость границ» и «транснационализация» (глобализация) служат лишь идеологическим прикрытием для установления и поддержания мировой доминации;
• либо это пустой концепт, лишенный всякой реальности, так как полный отказ от Политического в пользу экономики уничтожит саму природу человечества, как «политических животных», по Аристотелю, а следовательно, демонтирует саму антропологическую основу порядка; homo economicus может существовать как явление, но лишь в структуре homo politicus, как его срез, а не его полноценный субститут.
Это означает, что переход от третьего (двухполярного) номоса Земли к новому номосу в любом случае будет осуществляться в поле Политического, а если это так, то однополярность или (номинально бесполярная) глобализация могут быть лишь моментами в этом переходе к плюриверсуму. Однополярность может существовать только до того момента, пока не будет очевидно вскрыта политическая природа глобальной Империи, что не может не вызвать к жизни, по самой логике Политического, другую Империю (этого требует сама структура друг/враг). А глобализация остановится в тот момент, когда сопровождающие ее процессы ликвидации Политического в пользу экономического обнаружатся как хаос и покушение на сами основы человеческой природы, то есть на ось Порядка, составляющую проекцию вертикального расположения человека в пространстве.
Такой анализ Карла Шмитта становится чрезвычайно актуальным в 2000-е годы, когда «однополярный момент», проявивший себя в 1991 году, начал все более ставиться под вопрос. На это обратили внимание многие левые мыслители, в частности Шанталь Муфф4, показавшая, насколько идеи Шмитта подтвердились практикой американского неоимпериализма в 90-е годы ХХ века и в начале 2000-х. Именно тогда либеральный дискурс глобализации стал обнаруживать свою империалистическую сущность. Шанталь Муфф цитирует пассаж из Шмитта, который идеально точно описывает сущность американской гегемонии в контексте «однополярного момента»:
«Одно из самых замечательных явлений в юридической и интеллектуальной жизни человечества состоит в том, что те, кто обладает реальной властью, способны определять значение концептов и слов. Caesar dominus et supra grammaticam: Цезарь правит грамматикой»5.
Шанталь Муфф также приводит в этом отношении провидческую дефиницию Шмитта, данную им в классическом тексте «Понятие Политического»6 еще в 1932 году:
«Когда Государство начинает бороться со своими политическими врагами во имя человечества, это, на самом деле, не война за человечество, но война, в которой отдельное Государство стремится узурпировать универсальный концепт, чтобы использовать его против своих политических врагов. За счет противника такое Государство стремится отождествить себя со всем человечеством, чтобы в своих интересах использовать понятия мира, справедливости, прогресса и цивилизации, приписывая их только себе как собственность и лишая права на них своих врагов».
Эта цитата предельно емко описывает сущность однополярного момента и объясняет с точки зрения парадигмальной философии политики, почему это не может быть ничем иным, как именно моментом, переходным состоянием от одной модели структуризации Политического в международной сфере (в нашем случае от третьего номоса Земли) к другой (к четвертому номосу), который, чтобы быть собственно политическим, должен иметь больше полярностей, чем одна. Можно назвать это законом плюриверсума, который есть главный закон Политического. Двухполярный мир был политическим, поэтому он был действительным. После его распада мог и должен был наступить многополярный мир, чтобы удовлетворять всем условиям Политического — плюриверсальность, наличие всегда ситуативной (!) пары друг/враг. Однополярный мир не может быть политическим, следовательно, он не является действительным, но лишь фазой перехода от одного номоса к другому, который может быть только и исключительно многополярным.
Геополитический дуализм как спасение Политического в 1990–2000-е годы
Карл Шмитт в своих правовых и политологических разработках уделял большое внимание геополитике, чьи основы заложил британский автор Хэлфорд Макиндер, выделив два планетарных комплекса — цивилизацию Моря (талассократию) и цивилизацию Суши (теллурократию). Этой теме пространственного дуализма Карл Шмитт посвятил свою фундаментальную работу «Земля и Море»7, где он придал геополитическому дуализму, вскрытому Макиндером, глубинное философское обоснование, превратив геополитику из поверхностного, но чрезвычайно эффективного ситуативного метода анализа международных отношений в полноценную научную дисциплину. Метацивилизация Моря и метацивилизация Суши выступают у К. Шмитта двумя полностью противоположными типами цивилизаций, обобщающими множество разнообразных и промежуточных нюансов. Метацивилизация Моря (Карфаген) связана с либерализмом, Модерном, индивидуализмом, материализмом, прагматизмом и мировой торговлей. Метацивилизация Суши (Рим) — с консерватизмом, героизмом, созерцательностью, жертвенностью, иерархией, трансцендентальными ценностями.
Теоретически можно допустить, хотя сам Шмитт этого не делает, что в геополитическом дуализме Суши и Моря проявляется самая глубинная и радикальная форма Политического, то есть изначальная матрица плюриверсума. Великая война континентов — это то, что является предпосылкой существования всей международной политики. Этот дуализм может быть заслонен более сложной картиной, например, моделью суверенных национальных Государств, на признании абсолютности которых строится второй (Вестфальский) номос Земли. Но преодолен он в пользу необратимой победы одной из двух метацивилизаций — Суши или Моря — над другой даже чисто теоретически не может. Поэтому двухполярность третьего номоса земли (холодная война) была предельной и наиболее упрощенной формой плюриверсума, структура которого почти полностью совпала с геополитическим районированием мира на метацивилизацию Суши (СССР, Восточный лагерь) и метацивилизацию Моря (США и Западная Европа, НАТО, капиталистический лагерь). Конец двухполярной системы мог быть либо качественным изменением двухполярности, либо ее усложнением.
В 1991 году произошло ни то ни другое — ни качественное изменение, ни усложнение системы в сторону многополярности. Хотя должно было и могло было произойти именно одно из двух. Это ясно понимал, кстати, американский неореалист К. Уолтц, который совершенно автономно, без всякой связи с геополитикой, прогнозировал и прогнозирует до сих пор появление новой версии двухполярности — на сей раз по линии США — Китай. Но фактически сложился «однополярный момент», концептуализированный Ф. Фукуямой. С точки зрения классической политической науки произошло то, чего произойти не могло. И в этот момент для реалистичного объяснения происходящего, по ту сторону империалистической либеральной пропаганды и глобалистских утопий, начался геополитический бум, когда аналитики из самых разных областей обратились к геополитическим теориям и методикам для объяснения происходящих мировых перемен. Глобализация и ее теоретики, либералы в Международных Отношениях и транснационалисты, ни на один серьезный вопрос никакого внятного ответа не давали. Поэтому геополитика с ее наглядным дуализмом, подтверждаемым множеством действительных событий, фактов и процессов, стала спасением для политической рациональности, подорванной пристрастными апологетами однополярности любой ценой. Эта политическая рациональность, сохраняющая связь с законом плюриверсума, исходила из следующих пунктов:
• конец «холодной войны» в пользу США и капиталистического лагеря отмечает победу и усиление цивилизации Моря, но как эпизод геополитической истории мира, а не финальный поворот и «упразднение геополитики» (конец истории);
• метацивилизация Моря стала на определенный момент настолько доминирующей, что к ней свелись все актуальные процессы в мировом масштабе;
• метацивилизация Суши, получив колоссальный удар, оказалась разрознена, стянута к Heartland’у (урезанная Россия-Евразия в форме Российской Федерации) и оторвана от других «Больших пространств», объективно имеющих сухопутную идентичность;
• смысл данного геополитического момента состоит в том, что Запад (США, Западная Европа и либеральная сеть влияния) стремится закрепить победу над Сушей, давит и окружает стратегически Россию, подрывает на корню волю Евразии к реваншу, стремится сорвать возможные альянсы в геополитическом лагере побежденных, а фрагменты метацивилизации Суши, в первую очередь ее ядро — Россия, стремятся закрепиться на урезанных позициях, готовятся к рывку и возвращению в историю через сосредоточение внутренних возможностей и подготовку асимметричных альянсов.
Такая карта полностью объясняла основные тренды мировой политики в 1990–2000-е годы, описывала цели и мотивации основных участников, делала прозрачными такие эпизоды, как 9/11, война в Афганистане и Ираке, расширение НАТО на Восток, появление Путина и его политику укрепления суверенитета, цветные революции на постсоветском пространстве и в исламском мире, войны в Ливии и Сирии, появление БРИКС и т. д. Геополитика прекрасно объясняла каждый эпизод в отдельности и все вместе как продолжение Великой войны континентов — попытки метацивилизации Моря как актуального актора мировой политики закрепить и сделать необратимой свою победу над противоположной цивилизацией Суши, представляющей собой в этот период виртуального актора. Геополитический дуализм становился не эксплицитным, как в третьем номосе Земли, но имплицитным. Однако эта имплицитность легко и доказательно поддавалась корректному анализу, стоило только привлечь методологию геополитики.
С. Хантингтон и плюриверсум цивилизаций
В 90-е годы Сэмюэль Хантингтон предложил концепт «столкновения цивилизаций»8, где вопреки доминировавшим в тот период оптимистическим прогнозам либералов и глобалистов суммировал вызовы и угрозы доминации Запада в духе реализма в Международных Отношениях. Хантингтон, по сути, обрисовал многополярный миропорядок, вернулся к плюриверсуму как к ответственной и последовательной картине Политического в его международном масштабе и, кроме того, предложил новую кандидатуру в качестве актора этого многополярного мира — цивилизацию. Цивилизация (а не Государство и не идеологический лагерь) в понимании Хантингтона становится новым субъектом мировой политики, главным действующим лицом плюриверсума в его новом издании. Таким образом, Хантингтон описал назревающую многополярность как сосуществование нескольких крупных и устойчивых цивилизаций (longue durée Ф. Броделя), каждая из которых будет носителем суверенитета в новых условиях, что воссоздаст нормативную для школы реалистов анархию в области Международных Отношений, но только применительно не к национальным Государствам (как в условиях второго номоса Земли), а к результату интеграции нескольких Государств в единую наднациональную реальность на основе их цивилизационной близости. Примером такой интеграции может являться Европейский Союз.
Таким образом, Хантингтон полностью воспроизвел структуру плюриверсума К. Шмитта, подтвердил переходное значение «однополярного момента», отверг безответственные утопии глобализации, вернул Запад к своей имперской — в духе реализма — политической стратегии, наметил вектора интеграции различных Государств в сторону формирования «больших политей», то есть «Империй». В целом этот анализ воспроизводил логику «больших пространств» (Großraum) Шмитта и прекрасно вписывался в его видение «четвертого номоса Земли».
Хантингтон описал свою картину будущего через свойственный всем реалистам конфликтологический подход — отсюда апелляции к «столкновению» цивилизаций. Но это не столько алармизм, сколько традиционная версия осмысления анархии международных отношений, где конфликт (столкновение, clash) всегда возможен именно в силу отсутствия над суверенными единицами какой-то легальной и легитимной регулирующей инстанции. Поэтому вероятность столкновений между цивилизациями, теоретически, ничуть не больше вероятности войны между одним суверенным Государством и другим, а такая вероятность всегда присутствует уже в силу самого содержания суверенитета. Суверенитет предполагает, что возможность войны не может быть устранена легально никаким способом, так как это означало бы урезание суверенитета, десуверенизацию и утверждение легальности наднациональной инстанции. Просто в случае Хантингтона и его модели носителями суверенитета выступают не средние политейи, как в Вестфальской системе (второй номос Земли), но большие политейи (Империи, «большие пространства»).
Принцип сплошного плюрализма
Модель Хантингтона, вызывавшая широкие и бурные дискуссии, не представляла собой законченной теории многополярного мира, но лишь вводила этот вектор развития как один из наиболее вероятных, полемически оппонируя энтузиастам глобализации и либералам в Международных Отношениях. В конце концов, Хантингтон предложил не теорию, но журналистскую публицистическую версию, указывающую на возможную теорию. Как это ни парадоксально, полноценного развития эта установка в политической науке не получила, а работы К. Шмитта почти столетней давности остаются основными теоретическими основами, позволяющими придать этой теории полноценный научный вид. Более того, именно концепт плюриверсума, учрежденный Шмиттом в качестве базового определения политики только и может быть тем фундаменталом, который позволяет построить эту теорию непротиворечиво и стройно.
Модель плюриверсума как того мироустройства, которое должно прийти на смену «однополярному моменту», отличается тем, что она строится на принципе сплошного плюрализма. Национальное Государство, двухполярная модель противостояния социально-экономических систем и даже нереалистичная (с политической точки зрения) версия либеральной глобализации — все они основаны на редукционизме, на сведении многообразия политических факторов к унитарным универсальным концептам — будь то этатистским, классовым или индивидуальным. Поэтому и второй номос Земли, и третий, и глобализации «однополярного момента» всегда упрощают саму природу Политического. Даже если двуполярность в эпоху «холодной войны» ближе всего подошла к глубинной матрице геополитического дуализма (противостояние метацивилизации Суши и метацивилизации Моря), она все равно не выразила эту оппозицию максимально полно, редуцировав ее к урезанной универсалистской одномерной идеологии. Вероятно, именно это и повлекло за собой крах биполяризма, не учитывавшего всю гамму политической плюральности.
Столь же ограниченными являются и национальные Государства, возникшие исторически на заре Нового времени как отражение механицистско-атомистского научного мировоззрения. Неспособность адекватно отражать внутриполитический плюриверсум есть причина их постепенной эрозии, что проявилось и в двуполярности и, еще больше, в «однополярном моменте».
Поэтому политическое бытие народов и упорное стремление их вступить в полноту своих прав (Völkerrechte) должно рано или поздно привести к такой модели мироустройства, где будут достигнуты условия сплошной плюральности, конститутивно предопределяющей и внутреннюю политику (внутренний плюрализм) и внешнюю (плюрализм больших политей). Можно назвать это порядком «новых Империй», где единицами глобальной многополярности выступают в свою очередь многополярные, плюрально организованные конструкции, объединенные стратегически в «большие пространства», но многообразные по своим внутренним параметрам, где ни один шаг в сторону редуцирующего универсализма не упускается из виду, оберегая настолько, насколько это возможно, сложность всей системы. На практике этому соответствует принцип федерализма и модель субсидиарности. В результате мы получаем версию «федеральной Империи», основанной на диалектике «прав народов» (Völkerrechten)
Плюриверсум как теория и проект
Критику Хантингтона учли практически все ответственные аналитики, как согласные с ним, так и не согласные. Но оформления его тезисов в теорию и тем более в проект не последовало. А вместе с тем ситуация вполне напоминала историю с появлением геополитических школ. Первая версия геополитического анализа мировой ситуации была предложена англичанином Макиндером с позиции интересов британского империализма. Затем она была подхвачена американской стратегической мыслью. Но на этот взгляд с позиции метацивилизации Моря довольно быстро откликнулись мыслители метацивилизации Суши, что привело к возникновению континентальной геополитики немца К. Хаусхофера (ось Берлин–Москва–Токио как ответ на талассократическую стратегию англосаксов по окружению Евразии от береговой зоны и создание санитарных кордонов между Россией и Германией) и наброска аналогичного симметричного ответа со стороны России (начальные геополитические интуиции русских евразийцев). Так в ответ на геополитику-1 (атлантистская, англосаксонская версия, взгляд с позиций цивилизации Моря) была создана геополитика-2 (континенталистская, евразийская, русская и германская, взгляд с позиции метацивилизации Суши). В случае неоевразийства начиная с 80-х годов ХХ века эта аналитическая модель была постепенно приведена к теории (евразийская школа русской геополитики9), а затем превратилась в проект (Евразийский Проект10).
Этой же логике следует и становление Теории Многополярного Мира, или Плюриверсума. Обоснованная и концептуализированная в своих принципах К. Шмиттом, обозначенная в самом общем приближении С. Хантингтоном Теория Многополярного Мира оформляется только сейчас и сразу, не дожидаясь ее более детального развития, превращается в проект. Вполне естественно, что местом появления этой теории становится Россия — и как страна, проигравшая в «холодной войне» и ожидающая реванша, и как ядро Heartland’а, и как один из локомотивов крупных незападных объединений, таких как БРИКС или ШОС, и как цивилизация, наделенная признаками, радикально отличающимися от атлантических ценностей, составляющих сущность глобального либерализма. Плюриверсум, таким образом, становится логически основой стратегической доктрины будущей России. Но само содержание этой теории и этого проекта показывает, что для его утверждения необходимы равноценные и равновеликие (пусть и асимметричные) союзники вовне, а во внутренней политике необходимы фундаментальные изменения в духе сплошной плюральности, отказ от либерально-демократического универсализма западного образца, но равно и от национальной модели Вестфальского мира, то есть от структуры средней политейи, свойственной второму номосу Земли.
Контргегемония в Теории Многополярного Мира
Важнейшим аспектом Теории Многополярного Мира является концепт контргегемонии, изначально сформулированный в контексте критической теории Международных Отношений (МО). При переходе от критической теории к Теории Многополярного Мира11 (ТММ) этот концепт претерпевает определенные смысловые трансформации, которые необходимо разобрать более детально. Для этого следует напомнить основные положения теории гегемонии в рамках критической теории.
Понимание «гегемонии» в реализме
Понятие гегемонии в критической теории основано на теории Антонио Грамши. Следует различать концепт гегемонии в грамшизме и неограмшизме от того, как гегемонию понимают реалистское и неореалистское направления в МО.
Классические реалисты используют термин «гегемония» в относительном смысле и понимают под ним «фактическое и существенное превосходство потенциала могущества какой-то одной державы над потенциалом остальных, чаще всего соседних, стран». Гегемония вполне может быть региональным явлением, т. к. определение того, является ли то или иное политическое образование «гегемоном», зависит от того, какой масштаб рассмотрения мы применяем. В этом смысле этот термин встречается уже у Фукидида, говорившего о гегемонии Афин и о гегемонии Спарты в ходе Пелопонесской войны; классический реализм пользуется им точно так же вплоть до настоящего времени. Подобное понимание гегемонии можно назвать «стратегическим» и «относительным».
В неореализме «гегемония» понимается в глобальном (структурном) контексте. Основное отличие от классического реализма состоит в том, что здесь «гегемония» не может рассматриваться как региональное явление; она всегда глобальна. В неореализме К. Уолтца, например, утверждается баланс двух гегемоний (двухполюсный мир) как оптимальной структуры баланса сил в планетарном масштабе12. Р. Джилпин полагает, что гегемония вполне может сочетаться с однополярностью, т. е. может существовать один глобальный гегемон (сегодня эту функцию выполняют США).
В обоих случаях гегемония у реалистов истолковывается как способ соотнесения между собой потенциала могуществ различных держав.
Понимание гегемонии у Грамши в корне отлично и помещается в совершенно иной теоретической плоскости. Чтобы избежать неверного употребления термина в МО, и особенно в ТММ, следует подробнее остановиться на политической теории Грамши, в контексте которой гегемония и рассматривается приоритетно в критической теории и ТММ. Кроме того, такой анализ позволит яснее увидеть концептуальный зазор между критической теорией и ТММ.
Гегемония в концепции Антонио Грамши
Антонио Грамши основывает свою теорию, получившую впоследствии название «грамшизма», на основании переосмысления марксизма и его практического воплощения в исторической практике. Будучи марксистом, Грамши уверен, что социально-политическая история полностью предопределена экономическим фактором. Как и все марксисты, он объясняет надстройку(суперструктуру, Aufbau) через базис (инфраструктуру, Basis). Буржуазное общество является квинтэссенцией классового общества, где процесс эксплуатации достигает наиболее концентрированного выражения в отношении к собственности на средства производства и в присвоении буржуазией прибавочной стоимости, возникающей в процессе производства. Неравенство в экономической сфере (базис) и главенство Капитала над Трудом является сущностью капитализма и предопределяет всю социальную, политическую и культурную семантику (надстройку). Этот тезис разделяют все марксисты, и в нем нет ничего нового или оригинального. Но далее Антонио Грамши задается вопросом: как была возможна пролетарская социалистическая революция в России, где с точки зрения самого Маркса (анализировавшего положение в Российской империи в XIX веке, но в прогностической перспективе) и с точки зрения классического европейского марксизма начала ХХ века объективное состояние базиса (неразвитость капиталистических отношений, малый процент городского пролетариата, преобладание аграрного сектора в совокупном ВВП страны, отсутствие буржуазной политической системы и т. д.) исключало саму возможность прихода к власти коммунистической партии. И тем не менее Ленин сделал это возможным и приступил к строительству социализма.
Грамши осмысляет этот феномен как фундаментально значимый, называя его «ленинизмом». Ленинизм, в понимании Грамши, есть авангардное, опережающее действие консолидированной и решительной политической надстройки (в лице коммунистической партии большевиков) по захвату политической власти. Как только это становится фактом и революция оказывается успешной, следует стремительное развитие базиса через достраивание ускоренными темпами тех экономических реальностей, которые не были реализованы при капитализме: индустриализация, модернизация, «электрификация», «народное образование». Значит, делает вывод Грамши, в определенных обстоятельствах политика (надстройка) способна опережать экономику (базис). Коммунистическая партия может идти впереди «естественного» развития исторических процессов. Следовательно, ленинизм доказывает наличие значительной автономии надстройки в отношении базиса.
Но ленинизм, как его понимал Грамши, ограничивается областью политического сегмента надстройки — того, где действуют законы власти и решается проблема господства. Грамши утверждает, что в надстройке есть еще один важный сегмент, который не является политическим в полном смысле слова — т. е. партийным и сопряженным напрямую с вопросами политической власти. Он называет его «гражданским обществом». Такое определение следует сопровождать пояснением: «гражданское общество в понимании А. Грамши», т. к. он вкладывает в это понятие смысл, далеко не во всем совпадающий с тем, которым оно наделено, например, в либеральных теориях. Гражданское общество, по Грамши, это область интеллектуальной деятельности в самом широком смысле, за вычетом из нее прямой политической (партийной, государственной, административной) активности. Гражданское общество — это зона развертывания интеллектуальных сторон общества, включающая в себя науку, культуру, философию, искусство, аналитику, журналистику и т. д. Для марксиста Грамши эта область, как и вся надстройка, конечно же, выражает закономерности базиса. Но… ленинизм показывает, что, выражая закономерности базиса, в некоторых случаях надстройка может действовать относительно автономно, идя на опережение процессов, развертывающихся в базисе. Опыт революции в России демонстрирует на историческом примере, как это реализуется в политическом сегменте надстройки. И здесь Грамши выдвигает гипотезу: если так обстоит дело в политической сфере надстройки, почему чему-то подобному не быть и в области «гражданского общества»? Отсюда рождается грамшистская концепция «гегемонии»13. Она призвана показать, что в интеллектуальной сфере (= «гражданское общество по Грамши») существует нечто аналогичное экономическому дифференциалу (Капитал vs Труд) в базисе и политическому дифференциалу в надстройке (буржуазные партии и правительства vs пролетарские партии и правительства — например, СССР). Этот третий дифференциал Грамши и называет «гегемонией», т. е. совокупностью стратегий доминации буржуазного сознания над сознанием пролетарским в условиях относительной автономии по отношению как к политике, так и к экономике. Еще немецкий социолог В. Зомбарт, исследуя социологию буржуа14, показал, что комфорт может быть ценностью как третьего сословия, которое его частично имеет, так и других социальных слоев, которые его не знают и не имеют. Гегель в «Феноменологии духа»15 аналогичным образом говорил о том, что Раб для самоосмысления пользуется не своим сознанием, но сознанием Господина. Этот пункт был положен Марксом в основу развития коммунистической идеологии. Продолжая эту цепочку размышлений, Грамши приходит к выводу, что принятие или отторжение гегемонии (= структур буржуазного сознания) может напрямую не зависеть ни от факта принадлежности к буржуазному классу (фактор базиса), ни от прямой политической ангажированности в буржуазную (или антибуржуазную) партийную или административную систему. Быть на стороне гегемонии или против нее есть, по Грамши, дело свободного выбора интеллектуала. Когда интеллектуал сознательно осуществляет такой выбор, он из «традиционного» интеллектуала становится «органическим», т. е. осознанно выбирающим свое положение относительно гегемонии.
Из этого вытекает важный вывод: выступить против гегемонии интеллектуал вполне может и в том обществе, где капиталистические отношения в базисе и политическое доминирование буржуазии в надстройке преобладают. Интеллектуал может отвергнуть или принять гегемонию свободно, т. к. у него есть зазор свободы, аналогичный тому, который есть в области политического по отношению к экономическому (как показал опыт большевизма в России). Другими словами, можно быть носителем пролетарского сознания и стоять на стороне рабочего класса и справедливого общества, находясь в самом центре общества буржуазного. Все зависит от интеллектуального выбора: гегемония — это вопрос совести.
Сам Грамши пришел к такой концепции на основании анализа политических процессов в Италии 1920–1930-х годов16. В этот период, согласно его анализу, в этой стране вполне назрели предпосылки для социалистической революции — и в базисе (развитый промышленный капитализм и обострение классовых противоречий и классовой борьбы), и в надстройке (политические успехи консолидированных левых партий). Но в этих, казалось бы благоприятных, условиях, анализирует далее Грамши, левые силы были обязаны своим провалом тому, что в интеллектуальной сфере в Италии тон задавали представители именно гегемонии, внедряя буржуазные стереотипы и штампы даже там, где это шло вразрез с экономическими и политическими реалиями и предпочтениями активных антибуржуазных кругов. Этим, с его точки зрения, и воспользовался Муссолини, обративший гегемонию в свою пользу (фашизм, с точки зрения коммунистов, был завуалированной формой господства буржуазных классов) и предотвративший искусственно социалистическую революцию, назревавшую в силу естественного исторического хода событий. Иными словами, ведя (относительно) успешно политические баталии, итальянские коммунисты, по Грамши, упустили из виду «гражданское общество», сферу интеллектуальной, «метаполитической» борьбы, и в этом он видел причину их поражения.
В этой форме грамшизм был взят на вооружение европейскими левыми (особенно новыми левыми), и начиная с 1960-х годов левое движение в Европе применило грамшизм на практике. Левые (марксистские) интеллектуалы (Сартр, Камю, Арагон, Фуко и т. д.) смогли внедрить антибуржуазные концепции и теории в самый центр общественной и культурной жизни, пользуясь издательствами, газетами, клубами и университетскими кафедрами, которые были интегральной частью капиталистической экономики и действовали в политическом контексте доминации буржуазной системы. Тем самым они подготовили и события 1968 года, прокатившиеся по Европе, и левый поворот европейской политики в 1970-е годы. Как ленинизм на практике доказал, что у политического сегмента надстройки есть определенная автономия и активность в этой области может опережать процессы, развертывающиеся в базисе, так грамшизм в практике новых левых продемонстрировал эффективность и практическую ценность активной интеллектуальной стратегии.
Грамшизм в критической теории: левый уклон
В том виде, в каком мы описали, грамшизм и был интегрирован в критическую теорию МО ее современными представителями — Робертом Коксом17, Стивеном Гиллем18 и др. И хотя в духе постмодерна они еще более акцентировали автономность сферы «гражданского общества» и, соответственно, феномена гегемонии, поставив интеллектуальный выбор и эпистемологические стратегии выше политических процессов и экономических структур, в целом преемственность именно марксистскому левому дискурсу была сохранена: для них капитализм в целом лучше докапиталистических социально-экономических систем, хотя и заведомо хуже той посткапиталистической (социалистической и коммунистической) модели, которая должна прийти ему на смену. Этим объясняется структура проекта контргегемонии19 в критической теории МО — она остается в контексте левого понимания исторического процесса. Можно описать это так: согласно представителям критической теории, гегемония (= буржуазное общество, кульминирующее в голограмме буржуазного сознания) должна сменить собой недогегемонию (типы обществ, предшествующие буржуазному, и свойственные им формы коллективного сознания — Премодерн), чтобы затем быть ниспровергнутой контргегемонией, которая, после своей победы, установит постгегемонию. Так, сами Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии»20 на все лады настаивали на том, что претензии коммунистов к буржуазии не имеют ничего общего с претензиями к буржуазии со стороны антибуржуазных феодалов, националистов, христианских социалистов и т. д. Капитализм есть чистое зло, вбирающее в себя относительное (не столь явное и не столь эксплицитное) зло прежних форм общественной эксплуатации, но чтобы победить зло, надо дать ему полностью проявить себя и лишь затем искоренить, а не ретушировать его наиболее одиозные черты, лишь оттягивая тем самым горизонты революции и коммунизма.
Это необходимо иметь в виду, когда рассматриваются структуры неограмшистского анализа международных отношений.
Этот анализ делит все страны на те, где гегемония укрепилась явно (речь идет о развитых капиталистических странах с индустриальной экономикой, доминацией буржуазных партий в парламентских демократических системах, организованных в соответствии с образцами национальных Государств, обладающих развитой рыночной экономикой и либеральной правовой системой), и те, где по разным историческим обстоятельствам этого не произошло. Первые страны принято называть «развитыми демократическими державами», а вторые — относить к «пограничным случаям», «проблемным зонам» или даже к разряду «государств-негодяев» («rogue states»). Анализ гегемонии в странах, где она укрепилась, полностью вписывается в общий левый (марксистский, неомарксистский и грамшистский) анализ. Но случай стран с «недостроенной гегемонией» следует рассмотреть отдельно.
Эти страны сам Грамши относил к разряду «цезаристских» (явно имея перед глазами опыт фашистской Италии). «Цезаризм» может быть рассмотрен широко — как любая политическая система, где буржуазные отношения существуют фрагментарно и их полноценное политическое оформление (как классического буржуазно-демократического Государства) задерживается. В «цезаризме» главное не авторитарный принцип правления, но именно задержка всесторонней инсталляции полноценной капиталистической системы (в базисе и надстройке) западного образца. Причины такой задержки могут быть самые разные: диктаторский стиль правления, клановость элит, наличие религиозных или этнических группировок во власти, культурные особенности общества, исторические обстоятельства, особое экономическое или географическое положение страны и т. д. Важно, в первую очередь, то, что в таком обществе гегемония выступает одновременно и как внешняя сила (со стороны полноценно буржуазных Государств и обществ) и как внутренняя оппозиция, так или иначе связанная с внешними факторами.
Неограмшисты в МО утверждают, что «цезаризм» представляет собой именно «недогегемонию», поэтому его стратегия сводится к тому, чтобы балансировать между давлениями гегемоний извне и изнутри, идя на определенные уступки, но вместе с тем делая это избирательно, стремясь во что бы то ни стало сохранить власть и не допустить ее захвата буржуазными политическими силами, выражающими на уровне политической надстройки структуры экономического базиса общества. Поэтому «цезаризм» обречен на «трансформизм» (итальянское «transformismo») — постоянную подстройку под гегемонию, с одной стороны, при неизменном стремлении оттянуть, отложить или направить по ложной траектории тот финал, к которому она неуклонно движется.
В этом отношении представители критической теории в МО рассматривают «цезаризм» как то, что рано или поздно будет преодолено гегемонией, поскольку это явление представляет собой не более, чем «историческое запаздывание», а отнюдь не альтернативу, т. е. не контргегемонию как таковую.
Очевидно, что именно к такому «цезаризму» современные представители критической теории в МО относят большинство стран Третьего мира и даже крупные державы, входящие в БРИКС (Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку).
С учетом такой особенности становится ясной ограниченность концепта контргегемонии у представителей критической теории в МО и откровенный утопизм их альтернативных проектов — так, «контробщество» Кокса представляет собой нечто невыразительное и неопределенное. Они исходят из того смутного проекта социально-политического миропорядка, который должен наступить «после либерализма»21 (И. Валлерстайн) и соответствовать привычным для левых коммунистическим утопиям. Подобная версия контргегемонии ограничена еще и тем, что поспешно заносит многочисленные политические явления, явно не попадающие в разряд гегемонии и тяготеющие к альтернативным версиям миропорядка, в разряд «цезаризма» и, следовательно, «недогегемонии», лишая их какого бы то ни было интереса для разработки эффективной контргегемонистской стратегии. Но при этом общий анализ структуры международных отношений в свете методологии неограмшизма представляет собой крайне важное направление для разработки ТММ.
Однако для того, чтобы преодолеть ограниченность критической теории МО и полностью задействовать потенциал неограмшизма, следует качественно расширить этот подход, выйдя за рамки исключительно левого (даже «левацкого») дискурса, помещающего всю конструкцию в зону идеологического сектантства и маргинальной экзотики (где она располагается в настоящее время). В этом вопросе бесценную помощь нам окажут идеи французского философа Алена де Бенуа.
«Грамшизм справа» — ревизия Алена де Бенуа
Еще в 1980-е годы французский представитель «новых правых» («Nouvelle Droite») Ален де Бенуа обратил внимание на идеи Грамши с точки зрения их методологического потенциала22. Так же, как и Грамши, де Бенуа открыл фундаментальность метаполитики как особой области интеллектуальной деятельности, подготавливающей (в форме «пассивной революции») дальнейшие политические и экономические сдвиги. Успехи «новых левых» во Франции и в Европе в целом только подтверждали эффективность такого подхода.
В отличие от большинства французских интеллектуалов второй половины ХХ века Ален де Бенуа не был сторонником марксизма, что делало его позицию несколько обособленной. Вместе с тем А. де Бенуа строил свою политическую философию на радикальном отвержении либеральных и буржуазных ценностей, отрицая капитализм, индивидуализм, модернизм, а также геополитический атлантизм и евроцентризм Запада. Более того, он противопоставлял «Европу» и «Запад» как два антагонистических концепта: «Европа» для него является полем развертывания особого культурного Логоса, идущего от греков и активно взаимодействующего с богатством кельтской, германской, латинской, славянской и иных европейских традиций, а «Запад» — эквивалентом механицистской, материалистической, рационалистской цивилизации, основанной на преобладании техники надо всем остальным. «Запад» Ален де Бенуа вслед за О. Шпеглером понимал как «закат Европы» и вместе с Ф. Ницше и М. Хайдеггером был убежден в необходимости преодоления современности как нигилизма и «покинутости мира бытием» (Seinsverlassenheit). Запад в этом понимании был тождественен для него либерализму, капитализму, буржуазному обществу — всему тому, что «новые правые» призывали преодолеть. Не будучи материалистами, «новые правые» вместе с тем были согласны с ключевым значением, придаваемым Грамши и его последователями сфере «гражданского общества». Так, Ален де Бенуа пришел к выводу, что явление, именованное Грамши «гегемонией», является набором стратегий, установок и ценностей, которые сам он считал «абсолютным злом». Это привело к провозглашению им принципа «грамшизма справа».
«Грамшизм справа» означает признание автономии «гражданского общества в понимании Грамши» вместе с выявлением феномена гегемонии в этой сфере и выбором собственной мировоззренческой позиции на противоположной от гегемонии стороне. А. де Бенуа публикует программную работу «Европа, Третий мир — одна и та же битва»23, всецело построенную на параллелях между борьбой народов Третьего мира против западного буржуазного неоколониализма и стремлением европейских народов освободиться от отчуждающей диктатуры буржуазного рыночного общества, от морали и практики торговцев, заместившей собой этику героев24 (В. Зомбарт).
Важнейшее значение «грамшизма справа» для ТММ состоит в том, что такое понимание «гегемонии» позволяет встать на позицию за пределом левого и марксистского дискурса и отвергнуть буржуазный порядок как в базисе (экономика), так и в надстройке (политика и гражданское общество), но сделать это не после того, как гегемония станет тотальным планетарным и глобальным фактом, а вместо этого. Отсюда чрезвычайно нагруженный смыслом нюанс в названии другой программной работы Алена де Бенуа «Против либерализма»25 в отличие от «После либерализма»26 неомарксиста Иммануила Валлерстайна: для де Бенуа ни в коем случае нельзя уповать на «после», нельзя позволить либерализму сбыться как свершившемуся факту, надо быть против либерализма уже сейчас, сегодня, вести борьбу с ним из любого положения и в любой точке мира. Гегемония атакует в планетарном масштабе, находя своих носителей как в сложившихся буржуазных обществах, так и в обществах, где капитализм еще не утвердился окончательно. Поэтому контргегемония должна мыслиться вне идеологических сектантских ограничений: если мы хотим создать контргегемонистский блок, то в его состав надо ввести всех представителей антибуржуазных, антикапиталистических сил — левых, правых или вообще не поддающихся никакой классификации (сам А. де Бенуа постоянно подчеркивает, что разделение на «левых» и «правых» давно устарело и не соответствует настоящему выбору позиции; сегодня гораздо важнее, выступает ли некто за гегемонию или против нее).
«Грамшизм справа» Алена де Бенуа возвращает нас к «Манифесту Коммунистической партии» Маркса–Энгельса и вопреки их эксклюзивистскому и догматическому призыву «очиститься от попутчиков» призывает к формированию Глобального Революционного Альянса, объединяющего всех противников капитализма и гегемонии, всех тех, кто сущностно против него. При этом неважно, что берется за позитивную альтернативу — важнее в данном случае наличие общего врага. В противном случае, как считают «новые правые» (отказывающиеся, если быть точными, называть себя «правыми» — это название присвоено представителям данного течения их оппонентами), гегемонии удастся разделить своих противников по искусственным признакам, противопоставить одних другим, чтобы успешнее справиться со всеми по отдельности.
Денонсация евроцентризма в исторической социологии
С совершенно иной стороны подошел к этой же проблеме современный исследователь международных отношений и один из главных представителей исторической социологии в МО Джон Хобсон. В своей программной работе «Евроцентрическая концепция мировой политики»27 он анализирует практически все подходы и парадигмы в МО с точки зрения заложенной в них иерархии, построенной по принципу сравнения Государств и их роли, структур и интересов с образцом западного общества, взятого за универсальный норматив. Д. Хобсон приходит к выводу, что все без исключения школы в МО строятся на имплицитном евроцентризме, признавая универсальность западноевропейских обществ и считая фазы европейской истории обязательными для всех остальных культур. Хобсон справедливо рассматривает такой подход как проявление европейского расизма, постепенно и незаметно переходящего от биологических теорий о «превосходстве белой расы» к концепциям универсальности западных культурных ценностей, стратегий и технологий, а вслед за этим и интересов. «Бремя белого человека» становится «императивом модернизации и развития». При этом сами локальные общества и культуры подлежат этой «модернизации» по умолчанию — никто их не спрашивает, согласны ли они с тем, что западные ценности, технологии и практики универсальны, или готовы нечто возразить. Лишь сталкиваясь с насильственными формами отчаянного сопротивления в форме терроризма и фундаментализма, Запад (иногда) задается вопросом: «За что они нас так ненавидят?» Но ответ готов заранее: «Это происходит от дикости и неблагодарности неевропейских народов за все те блага, которые несет с собой западная «цивилизация».
Важно, что Хобсон убедительно показывает, что расизм и евроцентризм присущи не только буржуазным теориям МО, но и марксизму, и в том числе критической теории МО (неограмшизму). Марксисты при всей их критике буржуазной цивилизации убеждены, что ее триумф неизбежен, и в этом разделяют общий для западной культуры евроэтноцентризм. Хобсон показывает, что сам Маркс отчасти оправдывает колониальные практики тем, что они ведут к модернизации колоний, а следовательно, приближают момент пролетарских революций. Таким образом, в исторической перспективе марксизм оказывается пособником капиталистической глобализации и союзником расистских цивилизационных практик. Деколонизация мыслится марксистами только как прелюдия к построению буржуазных Государств, которым только еще предстоит встать на путь полноценной индустриализации и двинуться в сторону будущих пролетарских революций. А это мало чем отличается от теорий неолибералов и транснационалистов.
Джон Хобсон предлагает приступить к созданию радикальной альтернативы — к разработке теории МО, основанной на неевроцентристском и антирасистском подходах. Он солидарен с проектом «контргегемонистского блока», выдвинутого неограмшистами, но настаивает на освобождении его от всех форм евроцентризма, а следовательно, на его качественном расширении.
Проект неевроцентричной теории МО приводит нас наконец напрямую к ТММ.
Переход к многополярности
Теперь можно свести воедино все сказанное о контргегемонии и поместить это в контекст Теории Многополярного Мира (ТММ), которая, по сути, является последовательной неевроцентристской теорией МО, отвергающей гегемонию в ее основах и призывающей к созданию широкого контргегемонистского альянса или контргегемонистского пакта.
Контргегемония в ТММ осмысляется сходным образом с теориями неограмшистов и представителей критической школы МО. Гегемония есть доминация капитала и буржуазной политической системы общества, выраженная в интеллектуальной сфере. Другими словами, гегемония есть прежде всего дискурс. При этом среди трех сегментов общества, выделяемых Грамши, — базиса и двух составляющих надстройки (политики и «гражданского общества») — ТММ, в согласии с постмодернистской и постпозитивистской эпистемологией, главенствующим считает именно уровень дискурса, т. е. интеллектуальную сферу. Именно поэтому вопрос о гегемонии и контргегемонии видится центральным и основополагающим для построения ТММ и ее эффективной реализации на практике. Область метаполитики важнее как политики, так и экономики. Она не исключает их, но логически и концептуально им предшествует. В конечном счете, человек имеет дело только со своим разумом и его проекциями. Поэтому устройство или переустройство сознания автоматически влечет за собой изменение (внутреннего и внешнего) мира.
ТММ есть фиксация контргегемонистской концепции в конкретном теоретическом поле. И до определенного момента ТММ строго следует за грамшизмом. Но там, где дело доходит до выяснения содержательной стороны контргегемонистского пакта, возникают существенные расхождения. Самым принципиальным является отказ от левого догматизма: ТММ отказывается рассматривать буржуазные трансформации современных обществ на всем пространстве планеты как универсальный закон. Поэтому ТММ принимает грамшизм и метаполитику скорее в версии «новых правых» (Ален де Бенуа), нежели в версии «новых левых» (Р. Кокс). При этом позиция Алена де Бенуа не является эксклюзивистской и не исключает марксизма — в той степени, в которой он является союзником в общей борьбе против Капитала и гегемонии. Поэтому, строго говоря, выражение «грамшизм справа» не совсем точно: правильнее было бы говорить о инклюзивном грамшизме (контргегемонии, понятой широко, как все типы противостояния гегемонии, т. е. как обобщающее и этимологически строгое «контр») и эксклюзивном грамшизме(контргегемонии, понятой узко, только как «постгегемония»). ТММ ратует за инклюзивный грамшизм. Более обстоятельно эта позиция преодоления правых и левых, а также выхода за концептуальные пределы политических идеологий Модерна развертывается в контексте Четвертой Политической Теории, неразрывно связанной с ТММ.
Чрезвычайно важным является вклад в разработку инклюзивной контргегемонии Дж. Хобсона. Его призыв строить неевроцентричную теорию МО точно совпадает с целью ТММ. Международные отношения должны быть осмыслены с плюральных позиций. При построении по настоящему универсальной теории должны быть выслушаны и учтены представители самых разных культур и цивилизаций, религий и этносов, обществ и общин. В каждом обществе есть свои ценности, своя антропология, своя этика, свои нормативы, своя идентичность, свои представления о пространстве и времени, об общем и частном. В каждом обществе есть, в конце концов, свой собственный «универсализм» — как минимум, свое собственное понимание того, что является «универсальным». Что думает об «универсальности» Запад, нам известно, даже слишком. Пора предоставить право голоса остальному человечеству.
Это и есть многополярность в ее фундаментальном измерении: свободный полилог обществ, народов и культур. Но прежде, чем этот полилог сможет по-настоящему развернуться, необходимо определить общие правила. А это и есть теория Международных Отношений. Причем такая, которая будет предполагать открытость терминов, концепций, теорий, понятий, плюральность акторов, комплексность и полисемию высказываний. Не терпимость, но соучастие и взаимопонимание. ТММ в этом случае является не финалом, но стартом, расчищением базового пространства для будущего миропорядка.
Однако призыв к многополярности звучит не в пустом пространстве. В дискурсе о международных отношениях, в глобальной политической, социальной и экономической практике властвует гегемония. Мы живем в жестком евроцентричном мире, где империалистически доминирует одна сверхдержава (США) совокупно с ее союзниками и вассалами (страны НАТО), где рыночные отношения диктуют все правила хозяйственных практик, где буржуазные политические нормативы берутся в качестве обязательных, где техника и уровень материального развития считаются высшими критериями, где ценности индивидуализма, личного комфорта, материального благополучия и «свободы от» превозносятся выше всех остальных. Одним словом, мы живем в мире торжествующей гегемонии, раскинувшей свои сети в планетарном масштабе и подчиняющей себе все человечество. Поэтому чтобы сделать многополярность реальностью, необходима радикальная оппозиция, борьба, противостояние. Иными словами, необходим контргегемонистский блок (в его инклюзивном понимании).
Рассмотрим, какие ресурсы наличествуют у этого потенциального блока.
Синтаксис гегемонии/синтаксис контргегемонии
Гегемония в своей концептуальной голограмме основывается на убежденности в том, что современность во всем превосходит древность (прошлое), Модерн торжествует над Премодерном, а Запад во всем превосходит не Запад (Восток, Третий мир).
Вот какую структуру имеет синтаксис гегемонии в самом общем виде:
Запад (the West) = cовременность (Модерн) = цель=благо=прогресс=универсальные ценности=США (+НАТО) =капитализм=права человека=рынок=либеральная демократия=право
vs
Остальное (the Rest) =отсталость (Премодерн) =нуждается в модернизации (колонизация/помощь/уроки/внешнее управление) =нуждается в вестернизации=варварство (дикость) =локальные ценности=недокапитализм (еще некапитализм) =несоблюдение (недостаточное соблюдение) прав человека=несправедливый рынок (участие Государства, клановость, групповые преференции) =недодемократия=коррупция
Эти формулы гегемонии аксиоматичны и автореферентны, как своего рода «self fulfilling prophecy». Один термин обосновывается другим из цепочки эквивалентностей и противопоставляется любому термину (симметричному или нет) из второй цепочки. По этим незатейливым правилам строится любой дискурс гегемонии. Он может иметь видимость каузальности, иллюстративности, дескриптивности, аналитики, прогноза, исторического исследования, социологического опроса, дебатов, оппозиций и т. д. Но в своей структуре гегемония строится именно на таком остове, покрывая его миллионами вариаций и рассказанных историй. Если принять эти две параллельные цепочки равенств, мы оказываемся внутри гегемонии и полностью закодированы ее синтаксисом. Любое возражение будет гаситься новыми суггестивными пассами, скачущими через один или другой термин, чтобы прийти к искомой гегемонистской тавтологии. Даже самые критические формы дискурса рано или поздно соскользнут в эту постоянно возобновляемую семантическую колею синонимов и растворятся в ней. Стоит признать хотя бы одно из отождествлений, далее все предрешено заведомо.
Поэтому строительство контргегемонии начинается с полного опровержения обеих этих цепочек.
Построим симметричный синтаксис контргегемонии:
Запад (West) ≠ cовременность (Модерн) ≠ цель ≠ благо ≠ прогресс ≠ универсальные ценности ≠ США (+НАТО) ≠ капитализм ≠ права человека ≠ рынок ≠ либеральная демократия ≠ право
vs
Остальное (Rest) ≠отсталость (Премодерн) ≠нуждается в модернизации (колонизация/помощь/уроки/внешнее управление) ≠нуждается в вестернизации ≠варварство (дикость) ≠локальные ценности≠ недокапитализм (еще некапитализм) ≠ несоблюдение (недостаточное соблюдение) прав человека ≠ несправедливый рынок (участие Государства, клановость, групповые преференции) ≠ недодемократия ≠ коррупция
Если значки равенства гипнотически внедряются в коллективное сознание как нечто само собой разумеющееся, развернутое обоснование каждого значка неравенства требует отдельного текста или группы текстов. В той или иной степени ТММ и параллельные ей Четвертая Политическая Теория28, евразийство, «новые правые» (А. де Бенуа), неевроцентричная теория МО (Дж. Хобсон), традиционализм, постмодернизм и т. д. осуществляют эту задачу, но сейчас важно предложить эту схему как наиболее общую форму контргегемонистского синтаксиса. Отрицание содержательного высказывания содержательно уже в силу самого факта отрицания, а значит, осмысление неравенств нагружено смыслами и связями. Ставя под сомнение цепочки отождествлений гегемонии, мы получаем семантическое поле, свободное от гегемонии и ее суггестивной «аксиоматики». Одно это полностью развязывает нам руки для развертывания контргегемонистского дискурса.
В данном случае мы привели эти базовые правила для конкретной цели: для предварительного и самого общего исчисления тех ресурсов, на которые можно рассчитывать теоретически при построении контргегемонистского пакта.
Глобальная революционная элита
Контргегемонистский блок строится вокруг интеллектуалов. Следовательно, его ядром должна быть глобальная революционная элита, отвергающая «статус-кво» в самой его глубинной основе. Эта глобальная революционная элита образуется вокруг синтаксиса контргегемонии. Пытаясь осмыслять свое положение из любой точки современного мира, — в любой стране, культуре, обществе, социальном классе, профессиональной функции и т. д., — человек в поисках глубоких ответов об устройстве общества, в котором он живет, рано или поздно придет к пониманию базовых тезисов гегемонистского дискурса. Конечно, это дано не каждому, хотя, по Грамши, каждый человек есть интеллектуал до определенной степени. Однако только полноценный интеллектуал представляет собой человека в полном и совершенном смысле; он — своего рода делегат в парламент мыслящего человечества (homo sapiens) от более скромных его представителей (от тех, кто не может или не хочет реализовывать полноту данных человеку как виду возможностей — кульминирующих в возможности мыслить, т. е. быть интеллектуалом). Такой интеллектуал и имеется в виду, когда мы говорим о обнаружении гегемонии. В этот момент он становится перед выбором, т. е. реализует свою возможность стать «интеллектуалом органическим»: он может сказать гегемонии «да» и принять ее синтаксис, далее действуя в его структуре, а может сказать «нет». Когда он говорит «нет», он отправляется на поиски контргегемонии, т. е. ищет доступ в глобальную революционную элиту.
Этот поиск может остановиться на промежуточном этапе: всегда существуют локальные структуры (традиционалисты, фундаменталисты, коммунисты, анархисты, этноцентристы, революционеры разных типов и т. д.), которые, осознавая вызов гегемонии, отвергают его, но делают это на локальном уровне. Здесь мы находимся уже на уровне органических интеллектуалов, но пока еще не осознающих необходимость обобщения своего отказа от гегемонии в форме универсальной планетарной стратегии. Однако, вступая в реальную (а не воображаемую) борьбу с гегемонией, любой революционер рано или поздно обнаружит ее транснациональный, экстерриториальный характер: для своих целей гегемония всегда прибегает к комбинации внутренних и внешних факторов, атакуя то, что считает своим противником или препятствием своего имперского владычества (элементы второй цепочки — Остальные (the Rest)). Поэтому локальное сопротивление глобальному вызову в один момент достигнет своих естественных пределов; когда-то гегемония может и отступить, но она придет снова, и просто увернуться от нее не удастся никому и никогда.
В момент такого осознания наиболее развитые интеллектуально представители локальной контргегемонии почувствуют необходимость выхода на уровень фундаментальной альтернативы, т. е. овладения контргегемонистским синтаксисом. А это уже прямой путь к Глобальному Революционному Альянсу. Таким образом объективно и естественно будет формироваться мировая контргегемонистская элита.
Именно ей и суждено стать ядром контргегемонии. Более всего ТММ необходима именно ей.
Ресурсы контргегемонии: «ревизионеры» миропорядка и их уровни
Классические теории МО, в частности реализм, делят страны на тех, кого устраивает существующее положение вещей и баланс сил в мироустройстве, и тех, кого не устраивает и кто хотел бы поэтому его изменить в свою пользу. Первые называются «сторонниками статус-кво», вторые — «ревизионерами».
Те силы в мире, независимо от их масштаба и влияния, которые вписаны в гегемонию и удовлетворены ею, представляют одну половину (мыслящего) человечества; «ревизионеры» — вторую. Закономерно контргегемонистская элита рассматривает совокупность «ревизионеров» как свой ресурс. Именно «ревизионеры», осознают ли они это сами или нет, нуждаются в ТММ. Потребность в ТММ может быть вполне бессознательной, но даже если принять модель «цезаризма» и предположить, что многие политические единицы заняты только и исключительно процессами «трансформизма» (transformismo), ТММ дает им дополнительный аргумент для того, чтобы оппонировать давлению гегемонии. Иными словами, у контргегемонистской элиты (понятой широко, в описанном нами структурном виде — по ту сторону правых и левых) в лице «ревизионеров» появляется мощный естественный ресурс.
Для того, чтобы этот ресурс наличествовал, совершенно необязательно, чтобы руководящие политические элиты стран-«ревизионеров» были солидарны с контргегемонией или принимали ТММ как руководство к построению внешней политики. Здесь самое время вспомнить о значении интеллектуального дискурса в его автономном состоянии (на чем неограмшизм настаивает). Достаточно того, что интеллектуалы Глобального Революционного Альянса будут осознавать значение и функции «цезаристских» режимов в глобальном поле гегемонии; сами «ревизионеры» действуют интуитивно, тогда как представители контргегемонистского пакта — вполне осознанно. У тех и других в среднесрочной перспективе интересы совпадают. А это делает контргегемонистский пакт заведомо фундаментальной силой: hardware предоставляют «ревизионеры», software — глобальная революционная элита.
«Ревизионеры» в современном мире — это целый ряд мощных и развитых Государств, которые в силу различных исторических обстоятельств помещены глобальной гегемонией в такие условия, что чувствуют себя ущемленными. Их дальнейшее развитие по логике, навязываемой глобальным дискурсом, неминуемо приведет их либо к нежелательным для актуальных политических элит последствиям, либо к дальнейшему ухудшению положения этих государств. «Ревизионеры» весьма различны: одни склонны к компромиссу с гегемонией, другие, напротив, стараются всячески уклониться от ее влияния. Но повсюду есть поле для деятельности глобальной революционной элиты.
Самым серьезным объединением стран-«ревизионеров» является БРИКС. Каждая из этих стран сама по себе является гигантским ресурсом, и руководство всего клуба «Второго мира» объективно заинтересовано в многополярности — следовательно, ничто не мешает продвигать в них ТММ в качестве стратегической программы внешней политики.
Вокруг стран «Второго мира» гравитируют целые констелляции крупных региональных держав (Аргентина, Мексика — в Латинской Америке; Турция, Пакистан — в Центральной и Передней Азии; Саудовская Аравия, Египет — в арабском мире; Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Южная Корея — на Дальнем Востоке и т. д.). Каждая из этих стран в какой-то мере также может быть отнесена к «ревизионерам» и имеет внушительный список региональных амбиций, удовлетворить которые в системе гегемонии затруднительно или невозможно. Еще больше у этих стран страхов и вызовов в области безопасности, отражению которых гегемония совершенно не способствует.
Кроме того, есть целый ряд стран, находящихся в прямой оппозиции гегемонии (Иран, Северная Корея, Сербия, Венесуэла, Боливия, Эквадор и т. д.), что предоставляет Глобальному Революционному Альянсу привилегированные стратегические площадки.
На следующем подгосударственном уровне требуется более тщательный анализ, призванный выявить «ревизионеров» на политическом уровне — т. е. те политические партии и движения, которые по тем или иным идеологическим соображениям отвергают гегемонистский дискурс в том или ином его существенном элементе. Такие политические силы могут быть правыми или левыми, религиозными или секулярными, националистическими или космополитическими, парламентскими или радикально оппозиционными, массовыми или «диванными». Все они могут быть интегрированы в стратегию контргегемонистской элиты. При этом такие партии и движения могут располагаться как в политической зоне «ревизионеров», так и в поле тех стран, где гегемония укрепилась твердо и основательно. При определенных обстоятельствах — особенно в условиях кризиса или реформ — даже в таких державах открываются определенные окна возможности для нонконформных сил и их (пусть относительного) успеха и продвижения.
В сегменте гражданского общества возможности контргегемонии еще более широки, т. к. здесь носители гегемонистского дискурса выступают напрямую, без масок и опосредований. В области науки, культуры, искусства, философии носители контргегемонии, владеющие синтаксисом, способны эффективно противостоять идейным противникам, т. к. количество и масса в данной среде имеет весьма второстепенное значение. Один талантливый и подготовленный интеллектуал со стороны контргегемонии может стоить тысячи противников. В неполитической сфере, где располагаются науки, культура, искусство, философия, контргегемония может использовать гигантский арсенал средств и методов — от религиозных и традиционалистских до авангардных и постмодернистских. Ориентируясь на корректно понятый контргегемонистский синтаксис, не будет составлять труда развернуть самые разнообразные интеллектуальные стратегии, бросающие вызов западной «аксиоматике» Модерна. Эту модель также легко можно применить не только в незападных обществах, но и в развитых капиталистических странах, повторяя в новой исторической ситуации успешный опыт нового «левого грамшизма» в Европе 60–70-х годов ХХ века.
Совокупность подгосударственных политических структур и бескрайняя зона «гражданского общества» (в понимании Грамши) совокупно дает нам мезоуровень, тогда как сами Государства («ревизионеры») как таковые могут быть взяты за макроуровень развертывания контргегемонистской практики.
И наконец, микроуровень — это отдельные личности, которые также могут быть при определенных условиях носителями контргегемонии, т. к. поле борьбы за ТММ — это человек как таковой во всех его измерениях — от личного до социального и политического. Глобальность следует понимать антропологически.
Так мы получаем гигантский резервуар ресурсов, который находится в распоряжении потенциальной глобальной революционной элиты. В той ситуации, когда правила задает гегемония, а ей пассивно сопротивляется «недогегемония» или просто «негегемония», этот ресурс нейтрализован либо задействован в бесконечно малой степени и в строго локальных ситуациях, т. е. он не консолидирован, рассеян и подвергается постепенной энтропии. Для самой гегемонии в этом случае он не более, чем пассивное препятствие, инерция и объект, подлежащий покорению, «доместикации» или демонтажу (так для строительства дороги вырубают лес или засыпают болота). Но все это становится ресурсом контргегемонии, когда контргегемония превращается в осознающую себя силу, в исторический субъект, в явление. Все это трансформируется в ресурс, когда налицо глобальная революционная элита, обращенная к ТММ как к своей теоретической базе. До этого и без этого все перечисленные моменты ресурсом не являются.
Контргегемония и Россия
Осталось спроецировать принципы контргегемонии в контексте ТММ на ситуацию в России.
В контексте неограмшистского анализа современная Россия представляет собой классический «цезаризм» со всеми его типичными атрибутами.
Гегемония, со своей стороны, уверенно помещает Россию в цепочку «Остальные» (the Rest) и строит ее образ в соответствии со своим классическим синтаксисом: «авторитаризм» = коррупция = нуждается в модернизации = не соблюдает права человека и свободу прессы = Государство вмешивается в вопросы бизнеса и т. д.
Субъективно российское руководство занято процессами «трансформизма» (transformismo), постоянно балансируя между уступками гегемонии (участие в международных экономических организациях, таких как ВТО, приватизация, рынок, демократизация политической системы, подстройка под образовательные стандарты Запада и т. д.) и стремлением сохранить суверенитет, а заодно и власть правящей элиты с опорой на «патриотические» настроения масс. При этом в международных отношениях лично Путин однозначно придерживается реализма, тогда как Правительство и экспертное сообщество явно тяготеют к либерализму, что создает типичное для «трансформизма» двоемыслие.
Для ТММ и контргегемонистской элиты такое положение дел создает благоприятную среду для развертывания автономной активности и представляет естественный анклав, способствующий ее развитию, укреплению и консолидации. Россия однозначно относится к лагерю «ревизионеров» в международной системе, утратив свое положение одной из двух сверхдержав в 90-е годы ХХ века и резко сократив сферу своего влияния даже на ближайших рубежах. Однополярность мироустройства и укрепление гегемонии в последние десятилетия (=глобализация) принесли России исключительно отрицательные результаты, т. к. строились — геополитически, стратегически, идеологически, политически и «психологически» — за ее счет. И хотя предпосылки для активного реванша явно не назрели, общая атмосфера в обществе и основные объективные тенденции помогают становлению ТММ и способствуют укреплению и кристаллизации российского сегмента глобальной контргегемонистской революционной элиты. Более того, многие шаги В.В. Путина в вопросах внешней политики, направленные на укрепление российского суверенитета, его намерении в строительстве Евразийского Союза, его критика однополярного мира и американской доминации, а также эпизодические упоминания многополярности как наиболее желательного мироустройства — все это расширяет поле возможностей для органического построения полноценной и состоятельной теории контргегемонии в контексте ТММ.
«Политейя»
в Теории Многополярного Мира
Актором международных отношений в ТММ выступают цивилизации. Мы видели, что понимание цивилизаций может быть чрезвычайно разнообразным, при этом разные варианты не исключают, а дополняют друг друга. Такое разнообразие существенно обогащает концепт, делает его чрезвычайно содержательным, что дает возможность плюральных толкований цивилизационной идентичности, чьи пропорции, акценты и границы могут меняться, уточняться и варьироваться. Но для того, чтобы перейти на уровень теории, этот концептуальный плюрализм должен быть сведен к более упрощенной редукционистской системе. Здесь важнейшим инструментальным концептом является «большое пространство» (Grossraum), рассмотренное в «Геополитике многополярного мира». «Большое пространство», в отличие от цивилизации, представляющее собой принципиально не политическое явление, можно рассматривать уже как политический преконцепт, подводящий вплотную к оформлению политического измерения ТММ. И здесь мы подходим к очень важной проблеме: каким политическим статусом будут обладать полюса многополярного мира (= цивилизации) в этой теории? И, соответственно, на какой основе будет строиться правовая база международных отношений?
Здесь мы вынуждены напрямую ответить на очень деликатный вопрос, имеющий как чисто теоретическое, так и психологическое значение: будут ли полюса многополярного мира государствами? Если да, то какими? Если нет, то чем они будут?
Для того чтобы ответить на эти вопросы и приблизиться к выработке формального политического концепта, завершающего построение ТММ (по крайней мере, на первом этапе), следует дать краткий обзор того, что понимается под «государством» в современной политической науке.
На исторической шкале принято разделять все государства на два типа: пред-современное государство (Pre-Modern State) и современное государство (Modern State). Это принципиально разные концепты, обладающие собственным набором признаков. Пред-современные государства достигают своей обобщающей кульминации в Империи, которая предполагает сочетание высшей центральной власти в едином центре с широким распределением полномочий в пользу политических образований более низкого уровня — провинции, колонии, полуавтономные царства и т. д. К другому типу пред-современного государства относится древний полис, город-государство как небольшая автономная единица, обладающая относительной независимостью от других аналогичных сил и представляющая собой властный центр для прилегающих (сельских) территорий. Пред-современные государства могут быть самыми разнообразными с точки зрения политической власти, которую Аристотель систематизировал в трех парах, первый член которых рассматривался как позитивная версия правления, второй — как негативная, ущербная и пейоративная:
• монархия — тирания
• аристократия — олигархия
• полития — демократия
Большие территории предполагают больше централизации (монархия), малые могут управляться в режиме прямого народоправления (политии). То есть Империю или город-государство как версии пред-современных государств мы относим именно к Премодерну не на основании политической системы, в них преобладающей. Это важно.
Главными критериями пред-современного государства в его отличии от государства современного являются:
1) наличие у пред-современного государства сверхрациональной миссии и мифических истоков;
2) наличие в основании распределения власти сословного общества;
3) наличие коллективной идентичности (кастовой, сословной, этнической, конфессиональной и т. д.) как социальной основы политического организма.
Современное государство отличается от традиционного именно в этих трех пунктах. Оно:
1) совершенно рационально, руководствуется расчетом и национальными интересами, а создано на основании социального договора;
2) предполагает равенство всех граждан перед законом и отсутствие строго определенных привилегий на власть у какой бы то ни было социальной группы;
3) основано на индивидуальном гражданстве, то есть отрицает на правовом уровне какую бы то ни было коллективную идентичность.
Современное государство принято называть «национальным государством» или «Государством-Нацией» (Etat-Nation).
Сегодня в международных отношениях нормативным является только «национальное государство», которое считается единственным легитимным паттерном.
В отношении природы и структуры современного национального государства в политической науке ведутся жаркие дискуссии, но базовым для большинства ученых остается анализ государства социологом М. Вебером и плеядой его современных последователей, называемых иногда «неовеберианцами» (М. Манн, Т. Скокпол, Ч. Тилли и т. д.).
Веберовская традиция определяет государство по 4 основным элементам29. Государство — это:
1) дифференцированный набор институций и персонала, воплощающих в себе
2) централизм, в том смысле, что политические отношения организованы как излучаемые изнутри вовне, покрывая собой
3) всю территориально фиксированную зону, над которой
4) обладает монополией на установление правил властвования, подтвержденной монополией на использование средств физического насилия.
Эта веберовская модель социологии государства дает точное описание его с позиции форм и предполагает определенную степень ее автономии (учение об абсолютном суверенитете лежит в основании такой модели как имплицитная аксиома). Марксисты вносят в эту картину дополнительный социальный аспект, настаивая на том, что огромную роль играют классовые отношения, тяготеющие к тому, чтобы выйти за национальные границы (классовая солидарность международной буржуазии и интернациональный характер пролетариата). Но даже если не признавать учение о классовой борьбе, марксистский анализ уделяет повышенное внимание социальной стороне, гражданскому обществу, которое не имеет прямого отношения к государству как политической форме, но, тем не менее, оказывает на политику значительное (подчас решающее) влияние. Это подробно разбирал А. Грамши и продолжают современные грамшисты (как левые, так и правые). Грамши помещает «гражданское общество» в надстройку и строго отделяет его от сферы политического (то есть от государства). Если в политике (государстве) мы имеем дело с прямой властью, оформленной правовым образом и признанной функционально (Potestas Directa Карла Шмитта), то в обществе мы имеем дело с тем, что Грамши называет «гегемонией», то есть такой формой установления иерархических и властных отношений, которые не осознаются как таковые теми, кому они навязываются. Можно соотнести гегемонию в понимании Грамши с Potestas Indirecta у К. Шмитта. Гегемония не осознается как власть теми, на кого она воздействует, не признается легально и не имеет вообще никакого правового статуса. Коммунист Грамши считает, что в буржуазном обществе буржуазия обладает не только политической властью с помощью буржуазного государства и его аппарата, но и гегемонией, воплощенной в образовании, педагогике, науке, культуре, философии, искусстве и других формах гражданского общества, где неявно доминируют носители буржуазного сознания, подкрепляющие и легитимизирующие интеллектуально политическую доминацию капиталистов. Значение фактора «гегемонии» в понимании Грамши существенно дополняет веберовское определение государства дополнительным — социальным — измерением. Значение роли гражданского общества и разных вариантов Potestas Indirecta охотно признают и даже идеологически используют многие либералы, транснационалисты и даже «новые правые» (А. де Бенуа).
И наконец, еще один важный концептуальный ход в понимании природы государства делают представители неореализма в области Международных Отношений (в первую очередь М. Уолтц), которые предлагают рассматривать структуры национального государства не «изнутри вовне», на чем зиждется классический веберовский анализ, а «извне внутрь», анализируя то, как общий баланс сил в мировой политике аффектирует не только внешнюю политику отдельных государств, но отчасти и внутреннюю, заставляя национальные государства адаптироваться — политически, экономически, социально, культурно и т. д. — к политической системе, сложившейся на международном уровне. Эту же тему развивают представители неовеберовского направления (М. Манн, Т. Скокпол и т. д.), дополняя геополитическими факторами и учетом «баланса сил» анализ собственно государства.
Синтезом такого подхода является Английская школа Международных Отношений и особенно ее направление, связанное с трудами Фреда Холидэя, положившего начало направлению «исторической социологии в МО». У представителей этого направления мы встречаем все три уровня в понимании государства — веберовский (формальный), социологический (как грамшистский, так и либеральный/транснационалистский), геополитический (учет глобальной системы баланса сил на мировом уровне).
Этот краткий обзор понимания современного государства помогает нам подойти к ответу на поставленный ранее вопрос: можно ли рассматривать полюс многополярного мира, цивилизацию как базового актора в синтаксисе государства?
Теперь можно попытаться встать на индуктивный путь исследования и нащупать те характеристики, которые должны были бы быть свойственны полюсам многополярного мира. Попробуем описать их интуитивно.
1. Полюс многополярного мира должен обладать суверенитетом. Но только перед лицом других полюсов. Это вытекает из практического требования обеспечить цивилизации свободу и независимость перед лицом других цивилизаций, основанных на альтернативных культурных кодах.
2. Центр власти в цивилизации должен быть легальным с формально правовой точки зрения.
3. Зона применения власти и соответственно область установки ей правил игры должны быть дифференцированы в зависимости от этнокультурного и конфессионального состава населения.
4. Территориальная модель управления строится на принципах федерализма и субсидиарности (Альтуссиус).
5. Идентичность интегрируемых в цивилизации единиц может быть вариативной — коллективной (преимущественно) и индивидуальной (в определенных случаях).
6. У политического образования должны быть и миссия (вытекающая из культурного кода цивилизации) и рациональные интересы (основанные на верифицируемой и прозрачной калькуляции).
7. Социальные страты (этноконфессиональные группы, классы и т. д.) должны быть транспарентно и легально представлены в структуре политического тела.
8. Необходим межцивилизационный совет как совещательный орган, устанавливающий (неабсолютные и не неизменные) правила межцивилизационного взаимодействия (не нарушающие принцип суверенитета цивилизаций) с учетом как принципа многополярности, так и силового баланса.
Теперь, если мы проанализируем этот набор интуитивных параметров, мы обнаружим, что, к нашему удивлению, такое сконструированное теоретически политическое тело, с одной стороны, оперирует с известными и теоретически обоснованными в других контекстах свойствами Политического, а с другой — не совпадает ни с одной из рассмотренных моделей — ни с пред-современным государством, ни с современным национальным государством, ни с транснационалистскими конструктами неолибералов, ни с марксистским пролетарским интернационализмом. Мы имеем дело с централизмом в понимании власти, суверенитета, легальности, но в то же время с плюрализмом в отношении социальной идентичности и территориальных полномочий, а кроме того, с высоким уровнем легализации того, что Грамши называет «гражданским обществом». Так, мы получили оригинальный концепт, который не может быть строго отождествлен ни с государством (ни с Империей, ни с национальным Государством-Нацией), ни с обществом, ни с какой-то еще привычной моделью Политического, хотя все его составляющие, взятые по отдельности, оказываются нам знакомыми.
То есть в определенном смысле мы имеем дело с описанием одной из версий политического Постмодерна.
Осталось подобрать имя для этой концепции. Мы предлагаем (как вариант) воспользоваться термином «политейя»30 в платоновском смысле (а не в узком смысле «положительной демократии», как его употреблял в «Политике» Аристотель, прибегавший в других случаях и к более широкому толкованию). Платоновскую «Политейю» (знаменитый диалог, в котором излагается связно и системно учение об идеях) переводят и как «Государство» и как «Республику». Но тем не менее та реальность, о которой идет речь у самого Платона, и тот смысл, который вкладывали в этот термин греки того времени, не совпадают ни с нашим сегодняшним пониманием гоcударства, ни с тем, что понимали под Res Publica римляне (ни тем более что имеется в виду под «Республикой» в наше время). «Политейя» — это политическое образование любой размерности, от полноценного централизованного государства до его отдельных частей (провинций, округов, сатрапий и даже совсем мелких сельских единиц или конфессиональных анклавов).
Этот термин иногда используется в политической науке, но чаще всего метафорически, не приобретая никакого строго закрепленного за ним концептуального денотата. Что мешает в таком случае закрепить в качестве такого денотата тот набор свойств, которым обладает полюс многополярного мира? Тем более что термин «политейя» не имеет строгой фиксации ни в политических теориях Модерна, ни в Премодерне. Политейя — это упорядоченное, организованное общество, причем таковым может быть как Империя, так и современное государство, их отдельные части, а также общества разного калибра — от небольших общин до глобального общества. Теоретически мы можем применить ко всем ним термин «политейя», который не используется именно в силу его чрезмерной многозначности. Но та же самая полисемия, которая является причиной того, что этот термин не получил широкого применения в политологии, в случае теории многополярного мира является удивительным терминологическим преимуществом, вполне соответствующим самой структуре многополярности как комплексного явления. Политейя — это понятие, идеально подходящее для описания комплексного Политического, редукция которого в концепт требует включения большего числа параметров разной размерности, нежели в рутинной практике Модерна.
Государство — это политейя, но политейя — это не государство, так как включает в себя и общество, и культуру, и даже геополитические единицы. Политейя в ТММ есть политическое оформление «большого пространства» и поэтому обладает с самого начала еще и геополитическим измерением, что позволяет прозрачно интегрировать в ТММ «геополитику многополярности».
Если мы зафиксируем термин «политейя» для полюса многополярного мира, то увидим еще одну лингвистическую параллель: при толковании значения греческого слова πολιτεια словари часто приводят в качестве наиболее близкого по смыслу концепта латинский термин civitas, что дает нам именно цивилизацию. Но именно цивилизацию мы выделили в качестве главного актора международных отношений в ТММ. То есть поиск политического концепта для описания полюса многополярного мира завершился строго в той точке, с которой мы начали: мы снова пришли к понятию цивилизации, но на сей раз уточнив его политическое выражение и его политическое содержание.
Однополярный момент
и геополитика Ночи
Сумерки однополярного мира
После падения СССР и двуполярного мира, чьи основные моменты были очерчены в ходе Ялтинской конференции, начался однополярный момент (Ч. Краутхаммер). Это создало стратегическую парадигму того мира, в котором мы живем сегодня. Однополярный момент мог стать однополярным миром, а мог оказаться временным промежутком. Сегодня большинство экспертов уверены, что это однополярность является лишь эпизодом в геополитической истории и в нечто надежное и устойчивое, в полноценный «конец истории» не превратилась. Однако мы все еще живем в условиях этого однополярного мира. Он заканчивается, но он не закончен. На его место приходят альтернативные версии организации стратегического пространства планеты, но ни одна из них не стала очевидной и доминантной. Мы живем все еще внутри однополярного момента. Скорее всего, это его финальная фаза, но… История вещь открытая, в ней ничего не предопределено строго. То, что кончается, может кончаться еще очень долго. Кроме того, то, что начинается, может и не начаться, не состояться. Поэтому совершенно неадекватны те, кто скоропалительно утверждают, что однополярный мир и, соответственно, североамериканская гегемония относятся к прошлому, и мы живем в условиях постоднополярности. Это совершенно не так. Мы живем в условиях однополярного мира, который представляет собой геополитическое и стратегическое статус-кво. Американская доминация в военно-технической сфере остается неоспоримым фактом. Либерализм и либеральная демократия остаются общеобязательной идеологией в планетарном масштабе. Запад по-прежнему задает нормативные коды в экономике, политике, культуре, технологиях и информационной сфере, а те, кто с ним конкурирует (в частности, Китай или Россия), вынуждены играть строго по его правилам, соревнуясь и пытаясь победить в играх, правила которых придумал и навязал Запад.
Однополярность надо понимать объемно: она включает в себя и военно-стратегический баланс, и геополитику, и экономику (капитализм), и ценности (либерализм), и технологии, и образовательные и научные парадигмы (эпистемы), и политический стандарт (либеральная демократия), и все остальное. Демократия или капитализм являются столь же западными явлениями, как и блок НАТО, но сегодня все человечество в целом принимает их как нечто «само собой разумеющееся», а значит, однополярный момент, подразумевающий наличие лишь одного доминантного полюса в планетарном масштабе, сохраняет свое влияние. Мир однополярен, хотя эту однополярность сегодня надо понимать шире, чем принято. И все же именно эта объемная, синтетическая однополярность активно подвергается эрозии, что создает такие условия, которые можно назвать сумерками однополярного мира или «крепускулярной» однополярностью. Однополярность гаснет, но на смену ей пока приходит нечто неопределенное, а истинное будущее лежит по ту сторону точки полуночи, которую мы все еще не достигли. Или достигли? Это философский вопрос сущности сумерек: это тени вечера или первые лучи утра? Думаю, речь идет о вечере. А впереди ночь цивилизации. Тот, кто не чувствует ее приближения, пребывает в догматическом сне либерализма, завороженный его призраками. Дело идет к концу. К концу однополярного момента. Но впереди полночь.
Структура однополярного момента в его объемном понимании сложилась по результатам победы либерального капиталистического Запада в холодной войне против советского лагеря. Восток капитулировал в пользу Запада, и одна из половин двуполярно районированного мира стала единственным полюсом. Это означало переход от баланса с двумя полюсами (рассматривавшими друг друга как плюс и минус) к новой модели. В дисциплине Международных Отношений двуполярность была канонизирована неореалистом К. Уолтцем, а однополярность другим неореалистом Р. Гилпиным. Поэтому от геополитики двух пространств (плюс/минус) мы перешли к геополитике одного пространства с модуляциями по принципу ближе к ядру/дальше от ядра (центр/периферия). В МО это представляет собой переход от Уолтца и Гилпину. Центром становится атлантическое пространство с доминацией США. Остальные зоны конституируются по мере удаления от ядра в сторону периферии. В такой стратегической однополярности США есть главное, полюс, центр командования, все остальные зоны подлежат встраиванию в единую униформную систему. Это Pax Americana, где двуполярная стабильность Уолтца сменяется однополярной гегемонистской стабильностью Гилпина.
Либералы в МО мыслят ситуацию в «идеалистических» терминах, предпочитая вместо однополярности говорить о глобализации. Неореалисты делают акцент на военно-политической и стратегической гегемонии США и их союзников (младших партнеров) по НАТО. Либералы описывают тот же процесс как распространение либеральной демократии, рынка, идеологии индивидуализма и прав человека, стирание границ и т. д. Либералы предпочитают рассматривать ситуацию как бесполярную (Р. Хаас), подчеркивая, что у Запада больше не осталось симметричных и формальных идеологических врагов, поэтому весь мир стал глобальным Западом. Но такая «бесполярность» лишь скрывает прямую и глубинную гегемонию Запада, ставшую настолько могущественной, что никакая альтернатива не имеет шансов приобрести пространственное воплощение, достаточное для того, чтобы претендовать на статус полюса.
Неомарксистский анализ, представленный, например, в теории мир-системы И. Валлерстайна, описывает строго ту же картину однополярности в политэкономических терминах. Богатый Север (США и страны Западной Европы) сосредоточивает на своей территории основные богатства, высокие технологии и финансовые инструменты, извлекая выгоды из экономической деятельности всего человечества. Богатый Север потребляет то, что производит Бедный Юг. Это также однополярность, только осмысленная как географическая (пространственная) структура современного финансового капитализма.
Технологическая однополярность воплощена в том факте, что источником высоких технологий остается Запад, управляющий процессом инноваций и их внедрения. Остальное человечество вынуждено включаться в этот технологический процесс (распространение компьютеров, сетей, банковских карт, мобильных телефонов, коммуникаторов и т. д.), от чего зависимость от Запада только возрастает.
Социальной программой однополярности является наступательный индивидуализм, ярче всего воплощенной в гендерной политике, где либеральная борьба против всех форм коллективной идентичности логически приводит к опциональному пониманию гендера, как предпоследней форме коллективной идентичности, подлежащей ликвидации в ходе прогрессирующего либерализма (последней формой является принадлежность к человеческому роду и либеральный императив к преодолению человека, постгуманизм и трансгуманизм). Это своего рода «гендерная однополярность», где прогрессивный лагерь определяется по степени толерантности в отношении сексуальных меньшинств и законодательной легализации однополых браков, а консервативные (= отсталые) общества этому по инерции противятся. Полюсом являются общества с высокой гендерной толерантностью и соответствующим законодательством. Периферией — все остальные.
Такова структура однополярного момента — в ней есть сразу несколько измерений:
• геополитическое (военное доминирование США и стран НАТО);
• идеологическое (нормативное распространение либерализма и либеральной демократии);
• экономическое (окончательная интернационализация мировой капиталистической системы — глобализация);
• технологическое (неизбежность адаптации высоких западных технологий);
• ценностное (гендер-политика).
Если мы посмотрим на эту структуру целостно, то, с одной стороны, легко увидеть признаки конца, но, с другой стороны, станет очевидно, что эта система во многих смыслах довольно активно прогрессирует, интенсивно атакует «периферию», продолжает настаивать на своем.
Геополитическая доминация и экономическое превосходство Запада становятся относительными по мере активного подъема стран Второго мира (страны БРИКС). Либерализм все больше отвергается традиционными обществами. Так, в ходе «демократических» революций в исламских странах к власти все чаще приходят фундаменталистские и экстремистские силы. Технологии начинают развиваться и за пределом ядра глобального мира. Гендерная политика вызывает растущее противостояние не только за пределами Европы, но и внутри нее самой. Это признаки конца.
Но США все еще остаются гипердержавой. Либеральная демократия принимается почти всеми странами мира, где рыночная экономика и демократические институты (Парламент, выборы и т. д.) не ставятся под сомнение. Капитализм укоренился в глобальном масштабе. Без западных высоких технологий немыслимо ни одно современное общество. Гендерные революции распространяются все дальше и дальше за пределы Европы и США.
Поэтому конец однополярного момента далеко не так очевиден и требует более тщательного анализа.
Субъективность конца
Что является безусловным в наблюдении за состоянием нынешней однополярности, так это ее субъективная оценка. Она единодушно пессимистична. Даже если все еще продолжает преобладать точка зрения, что либеральная демократия есть меньшее из зол, сегодня, в отсутствие формальной оппозиции, акцент смещается от слова «меньшее» в сторону слова «зло». Однополярное статус-кво признается большинством человечества, но это же большинство рассматривает ситуацию в тревожных тонах. Важно: то, что есть, больше не вызывает энтузиазма и, наоборот, пробуждает все больше страхов, опасений и темных сюрпризов. Да, мир таков, как он есть, но это какой-то неправильный мир, стоящий на грани чего-то еще более худшего. Субъективный фактор имеет в обществе, в цивилизации огромное (если не решающее) значение. Если мы отнесемся к какому-то событию как к успеху, это и будет успех. Если как к провалу, это и будет провал. Однополярный момент сегодня квалифицируется почти единодушно именно как провал, как конец, как преддверие катастрофы, хотя — если отвлечься от субъективной оценки — все в мире выстроено так или почти так, как планировали либералы и сторонники глобальной победы Запада. Эта победа достигнута, но именно будучи достигнутой, она оказалась совсем не такой, как ожидалось. Это очень интересный момент: объективно положение с однополярным миром в целом довольно стабильно, и с формальной точки зрения этой комплексно понятой однополярности ничто особенно не угрожает, но вместе с тем ее оценки становятся все более мрачными, а тезис о «конце однополярного момента» разделяют даже самые последовательные и убежденные апологеты однополярности (тот же Ч. Краутхаммер). Подобно этому уже в 90-е либеральный теоретик «конца истории» Ф. Фукуяма ужаснулся собственному прогнозу и поспешил его пересмотреть, обнаружив обратную сторону тех явлений и трендов, которые он аккуратно описал.
В этом я вижу следующее. Наблюдателей и экспертов пугает не то, что есть сейчас, не то состояние однополярности, которое имеется в данный момент и которое на самом деле достаточно стабильно, но те близкие горизонты, которые открываются в том случае, если мы продлим прогнозы и анализы несколько дальше в будущее, продолжив имеющиеся уже сегодня линии развития. Говорить о конце однополярного момента заставляет не сегодня, но завтра. Вчера глобалисты хотели, чтобы сегодня (для них завтра) было именно таким, как оно есть. Но когда это совершилось, возник кризис футурологии, которая не способна видеть следующий шаг с тем же оптимизмом, как это было на предыдущем этапе. Конец двухполярного мира и исчезновение СССР представлялось ответом на все вопросы. Это произошло, и ответы практически на все вопросы (в духе либеральной универсалистской догматики) были получены. Но субъективно это стало конфузом и тревогой, а не закономерной радостью и удовлетворенностью. Раздражены и возмущены статус-кво сегодня даже те, кто более всего приложил усилий к становлению однополярного момента — З. Бжезинский, Г. Киссинджер, Дж. Сорос и т. д. Их прогнозы — алармистские и катастрофические. Так, однополярность в широком смысле завершается не потому, что исчерпала свои возможности, но потому, что обнажила какой-то слой реальности, который субъективно ужаснул самих ее творцов. Субъективность этой оценки не должна нас смущать: нам следует к ней присмотреться внимательно и попытаться распознать ее структуры.
Бифуркация: многополярность
Отталкиваясь от субъективного (!) конца «однополярного момента», мы можем зафиксировать нынешнее положение глобальной системы как точку бифуркации. Смысл ее довольно прост: либо существующие тенденции будут развертываться и далее в намеченном на сегодня русле, то есть однополярный момент будет продолжаться (продолжать кончаться), реализуя все заложенные в нем возможности, либо история сделает крутой поворот, и однополярность резко завершится, уступив место альтернативной — и на сей раз уже не однополярной! — системе мироустройства.
Обе возможности нетрудно спрогнозировать, если мы внимательно вдумаемся в сущность однополярного момента.
Что означает выбор альтернативы? Предположим, однополярность завершится, что придет на ее место? В нынешних условиях это может быть лишь многополярность. Она не будет ни двухполярностью (как в период СССР), ни возвратом к Вестфальской модели с действительным суверенитетом всех национальных Государств. Многополярность будет означать реконструкцию планеты с принципиально новым типом районирования и фиксацией центров силы. Новизна этого типа состоит в утверждении плюральности цивилизаций вопреки подразумеваемой универсальности, на которой основана однополярная модель. Это плюриверсум (К. Шмитт) вместо универсума. Отсюда плюриверсальность вместо универсальности, что затрагивает все — геополитику, ценности, экономику, технологии, идеологию, политику, гендерные стратегии, социальность и т. д.
Однополярный момент строится на глобализации Запада. Западная цивилизация в ее нынешнем состоянии признается универсальной и нормативной, а сам процесс глобализации служит наглядным подтверждением этого: успешная колонизация и надежная гегемония выступают как исторические обоснования для претензий Запада на универсальность своего исторического, культурного, политического и экономического опыта.
Многополярная альтернатива — с опорой как на традиционализм (Р. Генон, Консервативная Революция или евразийство), так и на антропологию (Ф. Боас или К. Леви-Стросс) и постмодернизм (М. Фуко или неограмшизм) — подвергает эту процедуру self-fulfilled prophecy Запада деконструкции и конституирует Запад как одну локальность наряду с другими. Далее следует нормативное утверждение альтернативных локальностей и их права на отличие. Пиком обобщения является утверждение множественности коэкзистирующих цивилизаций, полностью самостоятельных, пребывающих в диалоге и формирующих плюриверсум.
На практике это выражается в симметричных отрицаниях всей структуры однополярного момента:
• вместо геополитического доминирования США и НАТО несколько военных блоков: северо-американский, отдельно (!) европейский, русско-евразийский, китайский, индийский, латиноамериканский, исламский, африканский и т. д.;
• вместо общеобязательных либерализма и демократии зеленый цвет любым идеологиям — коммунистической, монархической, теократической, национальной, с допущением и тех моделей, которые сегодня преобладают — либерализм, но как локальных, а не универсальных феноменов;
• вместо однородного капитализма организация автаркических «больших пространств» (Ф. Лист) с любыми типами хозяйства — от феодальной до коммунистической, исламской, аграрной и т. д. (снова капитализм допускается, но как региональное явление, а не всеобщая судьба человечества);
• вместо технологического прогресса плюрализм выбора цивилизационных ориентаций — как в сторону техники и материализма, так и в сторону идеализма и созерцания;
• гендерная политика и социальная мораль строятся на принципе каждой конкретной цивилизации — от архаических племен с их гендерными практиками до мировых религий или секулярных обществ, где в каждом случае содержание гендера определяется исторически без какой-либо общеобязательной модели.
Легко представить себе такой мир, где традиция соединяется с постмодернизмом в радикальном отвержении западноевропейского и североамериканского Модерна со всем набором его универсалистских догм и гегемонистских практик. Подорвав монополию сегодняшнего центра, полюса однополярного мира, человечество откроет путь к по-настоящему свободному развитию с опорой на позитивно осмысленное прошлое, идентичность и в свободно избранном направлении. Каждая цивилизация сама определит или реставрирует в ходе глубинной деколонизации и девестернизации свои структуры — времени, пространства, человека, общества, государства, религии, философии, цели, норм и т. д. После чего будет создано поле для плюриверсального диалога на разных уровнях: геополитическом, межконфессиональном, социальном, экономическом, культурном, технологическом и т. д.
Контурная карта будущего в этом случае будет максимально дифференцирована. Несколько «больших пространств» (Grossraum К. Шмитта): Северная Америка, Южная Америка, Евразия, Европа, Великий Китай, Великая Индия, Исламский мир, Пан-Африка и т. д., каждое из которых представляет собой нечто аналогичное «империи». Не уточняя конкретный политико-правовой статус этих качественно разнородных образований, можно назвать их обобщенно «большими политейями». Отказ от универсализма дает возможность этим большим политейям, геополитически совпадающим с «большими пространствами», организовывать и оформлять свою властно-административную структуру на основе исторической идентичности и свободного выбора. Только после этого «большая политейя» приобретет более определенный статус — Государства, Империи, теократии, Республики и т. д. При этом носителем суверенитета (во всех смыслах, включая суверенную систему ценностей) становится именно цивилизация, представленная конкретной большой политейей. Плюриверсальность, взятая как всеобщее правило постоднополярного, многополярного мира, гарантирует плюрализм и внутри большой политейи, что и соответствует собственно цивилизации, всегда содержащей в самой себе множество разных автономных подсистем.
Переход от глобализма и нынешнего универсализма, запечатленных в однополярном моменте, к этой многополярной альтернативе, строго совпадал бы с концом Запада в той мере, в какой связал свою историческую судьбу с Модерном. Такой поворот означал бы в полной мере «конец современного мира», конец Модерна. При этом как локальное явление Запад сохранился бы, но при этом вынужден был бы поменять свою идентичность — от универсалистской и колониально инклюзивной к корневой и конкретной (что, кстати, могло бы спасти его как цивилизацию и культуру).
Для того чтобы конец однополярного момента был именно таким, многополярным, необходимо ни много ни мало: полностью обрушить стратегическую доминацию США в мировом масштабе, расчленить евроатлантическое сообщество на Северную Америку и континентальную Европу, свергнуть капитализм и мировую финансовую олигархию, отказаться от техники как судьбы, выкорчевать с корнем большинство западных колониальных практик, освободиться от вестернизационных элементов незападных обществ, проклясть и деконструировать научное мировоззрение, реабилитировать религию и сакральность, разоблачить либерализм как тоталитарную идеологию и восстать против него, полностью отвергнуть гендерную политику, вернувшись к традиционным практикам семьи — то есть, одним словом, войти в совершенно новый постзападный век.
Имеются ли для этого предпосылки? Да. Близки ли мы к этому сценарию? Предельно далеки, поскольку с полной ответственностью масштаба этой программы не понимают не только общества, но и самые авангардные элиты — причем даже в тех странах, где оппозиция однополярному моменту и американской гегемонии наиболее сильна. Реализация этого проекта требует глобальной революции и, соответственно, существования своего рода Глобального Революционного Альянса, как интеллектуального координационного ядра. Это возможно и даже необходимо, но на практике этого нет пока даже в самом отдаленном приближении, даже в форме проекта или намерения. Многополярная альтернатива когерентна и логична. Но пока она существует лишь в теории — в Теории Многополярного Мира. Это не мало, но явно недостаточно, чтобы выступать как действенный фактор скорого и определенного конца однополярного момента.
Следовательно, если однополярный момент окончится быстрее, чем предпосылки плюриверсума полностью созреют, а подготовительные структуры глобальной многополярной революции сложатся, то это окончание будет чем-то иным.
Чем же?
Геополитика Ночи: новые существа
и сказание об антихристе
Это мы выясним, если снова вернемся к тому, чего боятся аналитики и футурологи, оценивая однополярное статус-кво. Боятся ли они многополярности? Формально — да, и стараются активно ей противодействовать, давя в зародыше малейшие тенденции, направленные в эту сторону. По геополитической логике наиболее вероятно платформой такой многополярности могла бы выступить континентальная Россия-Евразия, традиционно на разных этапах своей истории выполнявшая роль главного оппонента Западу. Философия русских евразийцев 20–30-х годов ХХ века и новое рождение этого течения в неоевразийстве 90-х подготовили для этого идейную почву и наметили основные тенденции этой мировой антизападной стратегии. Но и субъективно, и объективно современная Россия еще весьма далека от того, чтобы полноценно двигаться в этом направлении, взять Плюриверсум в качестве своего основного девиза и вовлечь в глобальную антизападную антисовременную революцию другие общества. Это возможно, но маловероятно в близком будущем. Едва ли именно это внушает ужас теоретикам успешно построенного «нового мирового порядка», заставляя их говорить о «конце однополярного мира», а значит, и о конце этого «порядка». Они боятся чего-то еще.
Этот второй вызов в точке бифуркации настоящего момента вытекает не из многополярности и Плюриверсума, но из логического продолжения тех тенденций, которые составляют суть сегодняшнего исторического момента. Иными словами, это имманентный риск успеха, а не провала глобализации. Он проистекает не из опасения того, что однополярная глобализация может быть свернута или опрокинута альтернативой (многополярностью), но из того, что она дойдет до своего логического предела, то есть достигнет своей цели. Фукуяма, в частности, пересмотрел тезис «конца истории» не потому, что он показался ему преждевременным или недостижимым, но потому, что он увидел заложенный в нем ужас. Чтобы яснее увидеть, что собственно пугает в этом случае успеха (а не провала) глобализации, поступим прямо противоположным образом, чем тогда, когда мы, выстраивая структуру многополярности, последовательно опровергли все основные тезисы однополярного момента, набросав контурную карту плюриверсальной альтернативы. Теперь допустим, что точка бифуркации пройдена в направлении сохранения однополярного момента, что он смог избежать угрозы глобальной многополярной революции, усмирить Россию, обыграть Китай, рассеять и рассорить БРИКС, брутально подавить едва появляющиеся ячейки Глобального Революционного Альянса. В этом случае все тенденции достигнут своей кульминации. Что это будет означать?
Геополитическая доминация США превратится в глобальную диктатуру. Вашингтон станет мировой метрополией, единолично управляющей всеми процессами в мире, опираясь на своих безвольных и зависимых вассалов (проект «Лиги Демократий» и стратегии «цветных революций» — яркие образцы того, о чем идет речь). На этом основании будет открыто установлено Мировое Правительство.
Либерализм окончательно утвердится в форме тоталитарной идеологии (третий тоталитаризм), не допускающей самой возможности не быть либералом (правым, левым, крайне правым, крайне левым, но обязательно либералом) под страхом репрессий (ранжирующихся от социального остракизма до юридического преследования).
Вся экономическая власть будет сосредоточена в руках мировой финансовой олигархии, полностью обнулившей значение труда и реального сектора в пользу виртуальных манипуляций с финансами.
Зависимость общества и человека от технологии достигнет такого уровня, что сложится настоящий симбиоз человека и машины (трансгуманизм).
Завершив гендерную политику триумфов опциональности пола, который можно будет легко и многократно менять по выбору, будет демонтирован эйдетический концепт человека в пользу чистого индивидуума, способного принимать различные формы (машинные, видовые, виртуальные и т. д.). Все социальные связи будут окончательно оборваны. Нормативность индивидуума постепенно перерастет в нормативность дивидуума, произвольно собирающейся из фрагментов открытой сущности (от открытого общества к открытому индивидууму, то есть дивидууму).
Все границы, предполагающие в той или иной степени плюриверсальность, будут упразднены, все отличия — отменены. В рамках тотальной прозрачности исчезнут градации света и тьмы, предмета и тени. Мировой день глобального мира будет не отделим от мировой ночи. Центр вберет в себя периферию и перестанет быть центром как таковым. Однополярность, на самом деле, превратится в бесполярность, где вездесущая диктатура тоталитарно-либерального Мирового Правительства будет настигать ослушавшегося в любой точке пространства, включая пространство виртуальное. При этом отмена границ реконфигурирует не только поле международной политики, но и различия между жизнью и смертью, вымыслом и действительностью, виртуальностью и реальностью, прошлым и будущим. Абсолютный порядок совпадает с абсолютным хаосом.
Элементы такого завтрашнего дня уже налицо, и те, кто активно способствовали тому, чтобы сегодняшний день был именно таким, как он есть, не могут не догадываться о том, каким будет завтра, если все пойдет именно так, как сейчас. Этот образ, скорее всего, и пугает сегодня аналитиков, которые страшатся того, что завтрашний день будет таким, каким он должен быть, едва ли не больше того, что это либеральное завтра будет сорвано революционерами Плюриверсума. Этого ужаса недостаточно для того, чтобы самые авангардные либералы встали на сторону многополярности, но достаточно для того, чтобы они с пессимизмом относились к «однополярному моменту», прозревая в ближайшем будущем не «новый мировой порядок», но мировой хаос и геополитику Ночи.
Чтобы перейти от сегодняшнего состояния «однополярного момента» к завтрашнему (не многополярному, бесполярному), нужны новые аналитики, «новые люди», которые способны служить геополитике Ночи стойко и уверенно, не впадая в пессимизм и колебания. Быть может, для человеческого существа это вообще недоступно, и ужас будет тормозить движение к хаосу. Поэтому понадобятся новые постчеловеческие существа, капитаны глобалистского будущего, с новым набором свойств и компетенций, воспитанные в виртуальной среде (желательно в рамках однополой семьи), усовершенствованные с помощью новейших технологических гаджетов, позволяющих дальше видеть, лучше слышать, быстрее бегать, сильнее бить… Для будущего необходимы «позитивные мутанты», способные перешагнуть через естественные рамки человечества по темной дороге либерализма. Их близость ощущается, тревожно висит в воздухе предчувствие «новых существ».
Сказка глобализации и модернизации почти стала былью, но оказалось, что это очень страшная сказка.
Когда будет потеряно все
Итак, бифуркация. Мы говорим о возможности альтернативы и Плюриверсума. Многие об этом говорят и думают, и чем дальше, тем будут говорить и думать еще больше. Но на мой взгляд, при всей своей реалистичности проект Плюриверсум, теоретически уже оформленный в общих чертах в Теории Многополярного Мира, представляет собой лишь рационализацию более глубокого и экзистенциального импульса. Многополярный мир, хотя и возможен, но слишком хорош для современного человечества, которое его просто не заслуживает. Именно поэтому оно медлит не спеша стремительно броситься в этом спасительном направлении, пока для этого есть время и силы. Плюриверсум показывает лишь горизонт человеческой свободы, но едва ли сможет стать путеводной звездой. Человечество слишком глубоко включилось в современность, в Запад, в Модерн, чтобы сделать стремительно крутой вираж и вернуться к своим сакральным основаниям, к Традиции или внять авангардной (хотя и часто амбивалентной) критике тех, кто предлагает подвергнуть капиталистическое западное общество деконструкции. Видимо, оно намеревается дойти до самого центра Ночи, чтобы достичь ее края.
Так многополярность и Плюриверсум, Глобальный Революционный Альянс становятся не инженерным проектом того, как можно было бы организовать человечество в условиях глубинного кризиса однополярного мира, но этическим долгом, эсхатологическим учением, религиозным порывом. Трудно сказать, как эффективнее пробудить спящих — описав ли им прелесть пробуждения или предсказав ужас поджидающего их кошмара. Эту проблему решал Заратустра Ницше в начале своей проповеди людям: он рассказал им о Сверхчеловеке, чтобы восхитить их, показав горизонт, но его никто не слушал; тогда он решил напугать и пристыдить их, рассказав о «последних людях» — эффект был неожиданным — это им так понравилось, что они закричали: «Дай нам этих последних людей, Заратустра». Напугать также не удалось, Заратустра плюнул, махнул рукой и ушел в горы. Видимо, во всем надо дойти до предела. И если своим отношением к истории хотят достичь империи антихриста, им не помешать в этом. Но стараться необходимо. Поэтому защищать многополярное мироустройство и настаивать на Плюриверсуме надо даже в том случае, если бы это было вообще невозможно. А тем более, пока это все еще возможно. Итальянский писатель Курцио Малапарте говорил: «Ничто не потеряно, пока не потеряно всё». Пока не всё потеряно, это точно, поэтому у будущего есть свободный контур, отличный от «конца истории» в ее либеральном однополярном выражении. Но если мы не соберемся с духом, через какой-то момент будет потеряно уже всё. И вместо тонких и глубинно человеческих горизонтов многополярного мира нам останется лишь безальтернативная геополитика Ночи.
Хаорд и нелинейная версия американского империализма
Классический вектор американского империализма
Manifest Destiny является классической моделью американского империализма, который может быть прослежен от доктрины Монро до 14 пунктов Вудро Вильсона.
Путь от «Мэйфлауер», корабля, на котором в Америку прибыла группа фанатиков-кальвинистов, ставших отцами-основателями США, до PNAC (Project for New American Century — Проект Нового Американского века ведущих американских неоконсерваторов У. Кристола и Р. Кэйгана) — это прямая линия весьма специфического мессианского империализма.
США — секулярная страна. Но секулярность секулярности рознь. М. Вебер показал, что секуляризация протестантизма дает капитализм31. Н. Бердяев намекнул, что русский большевизм есть продукт секуляризации православия32. К. Шмитт обосновал понятие «политической теологии»33, как структуры Политического, гомологично воспроизводящей параметры и пропорции религиозных воззрений. Так секуляризация протестантистского (кальвинистского) мессианства легла в основу американского либерального мессианства.
Геополитика американской истории идет рука об руку с идеологической эволюцией основных базовых принципов либерализма. Либерал-мессианство (абсолютизирующее принцип свободы и ее вариации) есть глобальная ось американской идеологической истории.
Сегодня (неважно в версии ли неоконсерваторов, PNAC, или в иных более мягких и двусмысленных оформлениях, например soft-империализм CFR) мы имеем дело с кульминационным моментом американской истории (как ее мыслит политическая элита США). Конечно, США сегодня испытывают серьезные трудности и сбои в реализации своей гегемонии, и проблемы дают о себе знать все больше и больше, но общая установка на логику мессианского либерализма не может быть отменена. Это нереалистично. США не могут в одночасье перестать быть самими собой.
Исторически: сейчас тот момент, когда для США необходимо зафиксировать свой триумф. Это вызов, от которого Америка может уклониться только ценой своей самоликвидации.
Поэтому главная проблема современных США — это выяснение соотношения — американское vs универсальное. Либеральный империализм настаивает: американское есть универсальное. Это палка о двух концах, так как требует от американского стать всеобщим, подчас ценой сохранения своей американскости. По этому поводу бьют тревогу американские консерваторы от П. Бьюкенена до С. Хантингтона. Их тезис: приобретая мир, США теряют сами себя. И иначе: гегемония требует внедрения в само американское общество отвлеченно глобалистских стандартов и космополитических практик. Глобалисты настаивают: переход от американского meltingpot к глобальному пройдет комфортно, органично и незаметно. Скептики возражают: англосаксонская идентичность в границах США справлялась с переплавлением эмигрантов разных этносов и культур в усредненного социального WASP, пусть и с различным цветом кожи и конфессией, но за пределом определенных пропорций североамериканская идентичность рухнет (тезис позднего С. Хантингтона34).
Империя?
Американская идея осмысляется рядом авторов как Империя. Таковы Негри/Хардт35, Ален Сораль36 и т. д. Неоконсы37, в свою очередь, принимают на себя статус носителей Империи38.
Вопрос: имеем ли мы дело с Империей?39 Империя — это порядок, универсальный сценарий и модель организации власти40. Имеем ли мы его в современной американской гегемонии?
Вопрос непростой. Смысл этого в следующем: являются ли США носителями полноценной версии мирового порядка, который мог бы быть универсальным (несмотря на те претензии, которые мы могли бы ему предъявить — это в данном случае вообще не имеет значения), или не являются.
И да и нет
Да, поскольку либеральное мессианство предполагает определенную централизованную ценностно-властную систему, включая экономику как ее концентрированное выражение. То есть налицо определенная модель порядка, основанного на вполне конкретных структурах (индивидуум как мера вещей, опора на собственные силы (self-help), гарантии индивидуальных свобод, демонтаж всех форм коллективной идентичности, фритредерство и т. д.).
Нет, поскольку мы замечаем на практике, что либеральное мессианство входит в соприкосновение с социальными формами, никак не подлежащими переводу в либерал-мессианскую структуру в обществах незападного типа, где оно либо отвергается, либо трансформируется до неузнаваемости. И в этом случае возникает не порядок, но хаос.
Измерим масштабность этого хаоса. Можно воспринять его как переход к либеральному порядку. Так звучит оптимистическая версия американского либерального империализма. Но этот оптимизм, популярный в 90-е годы прошлого века, сегодня практически сошел на нет даже у его самых ярких апологетов (Ф. Фукуяма). Практически все, кроме самых плоских пропагандистов Нового Мирового Порядка, склоняются к тому, что хаос (по крайней мере, в половине политического пространства мира, а демографически и того больше) как минимум по масштабности равновелик порядку. И очень силен41.
Это значит, что Империя (если мы согласимся понимать под этим структуру американской гегемонии) имеет дело с довольно солидно представленной на планетарном уровне Не-Империей. Эта Не-Империя представляет собой не какую-то четкую идеолого-политическую и социально-экономическую инициативу (как в двухполярном мире), но именно не-порядок, сбой программы доминации.
Интересно, что в нашем случае структура Империи такова, что она не противостоит хаосу, а продуцирует его. Как так? Как может порядок провоцировать хаос? В нашем случае может. Это вытекает из природы того порядка, который несет в себе Империя. Тут Негри и Хардт отчасти правы. Американский порядок основан на абсолютизации методологического индивидуализма (Л. Дюмон42). И в англосаксонских странах (частично в Европе) это работает (it works). Это работает, так как структура англосаксонского (то есть германского в своем типе) индивидуума достаточно упорядочена для того, чтобы быть опорой порядка, даже когда индивидуум предоставлен самому себе. Разрушая социальность как холизм, англосаксонский либерализм не разрушает общество, воссоздаваемое атомизированными индивидуумами как их проекция. Это и есть парадигма нынешней Империи. Нынешняя Империя есть Империя, основанная на индивидууме. Это Империя индивидуальной свободы. Ее порядок есть индивидуализированная воля к власти.
В чем правы Негри и Хардт43? В том, что либеральная Империя сама несет в себе принцип самоликвидации, так как принцип свободы и индивидуализации подтачивает основы порядка как такового. Эта самоликвидация проявляет себя в двух формах:
• во-первых, в проекции либеральных принципов на не-западный мир, где индивидуум призрачен, а реальное разрушение социальной когезии ведет не к его выявлению и уж точно не к упорядоченному индивидууму англосаксонского (западноевропейского образца), но к чистому социальному нигилизму или к обнаружению глубинных кодов коллективной идентичности этнического, племенного уровня;
• во-вторых, свобода индивидуума в самом западном мире, и даже англосаксонском контексте, через углубление связки либерализм/либертарианство (li-li на современном слэнге французских политологов — liberalisme libertaire) легко может перейти скачку на субиндивидуальный уровень, к дивидуализации индивидуума и постмодернистскому горизонту ризомы и шизомасс44. В обоих случаях налицо приглашение к хаосу (welcome to chaos). То есть Империя сегодня такова, что сама продуцирует хаос, эмулирует хаос.
Хаорд
Мы имеем дело с очень интересной ситуацией: в новой ситуации Империя (как универсальный порядок) не противостоит хаосу (как беспорядку — локальному чаще всего, но, возможно, локально тотальному), но генерирует его. Это концепт Risiko-Geselschaft (общество риска) У. Бека и Э. Гидденса45.
При этом Империя, генерируя хаос, тщательно заботится о том, чтобы никакого порядка не было, кроме того, который устанавливается самой Империей. Остатки не либерал-мессианского (американского) порядка безжалостно истребляются. Поэтому Империя предполагает особый хаотический порядок, тот самый хаорд (о котором писал создатель платежной системы Виза Д. Хорд46).
Хаорд или хаосмос Делеза47 и американская Империя не противоположности. Это одно и то же.
Обама есть воплощение хаорда. Он лауреат Нобелевской премии мира, но ведет три агрессивные завоевательные войны. Черный хаот мягкого империализма.
Американская Империя строится не на старой логике — центр (метрополия) и колонии/сателлиты. Сателлит предполагает фрагмент порядка (локального), во главе которого стоит лояльное метрополии руководство (марионетки, сатрапы). Это классическая Империя. Нынешняя Империя не такова. Она идет против локального порядка как такового, для нее недостаточноиметь лояльную колониальную администрацию. И это принципиально.
Революции в арабском мире — поворотный пункт в становлении Империи. Империя начинает ликвидировать свои колониальные конструкты и приступает к демонтажу локальных сателлитных порядков. Каковы эти порядки? Они не-хаотичны, точнее, недостаточно хаотичны. Они проамериканские, но не глубоко. А надо глубоко, по крайней мере глубже. Это концепт «углубления демократии» или «демократия вглубь». Речь идет о корневой имплементации хаорда48.
Хаорд есть параноидальная модель гибкой эффективности с обратной связью. Принцип it works (это работает) становится глобальной обсессией. Чтобы «оно работало», можно поступиться всем, в том числе и индивидуумом. И теперь уже совсем неважно, кто и что такое это «оно», которое должно «работать». Лишь бы работало. Это последний вывод абсолютизированного американского прагматизма.
Хаорд предполагает не победу, но перманентизацию войн. Войны хаоса должны быть локальными, спонтанными и непрерывными. Прекращаясь в одном месте, они вспыхивают в другом. Вся планета является внутренним полем Империи, а значит, все войны становятся гражданскими.
Новая концепция власти
Новый концепт планетарной власти Империи — это власть бессубъектная. Власть есть, а властителей нет. Это лента Мебиуса «восстания элит» (К. Лэш49), в поисках централа власти и локализации ее диспозитива мы движемся внутри и вовне этой ленты, не находя ничего. «The power is out there», перефразируя слоган X-files50.
Власть становится делокализованной, элиты меняют ориентацию с вертикальной на горизонтальную. Власть находится не в центре, а вне центра, она отныне эксцентрична. Вспомним Potestasdirecta и potestasindirecta51 К. Шмитта52. Сегодня вся власть становится indirecta (косвенное могущество). Власть реализуется по касательной. Она осуществляется через контроль за начальными условиями, а это и есть определение хаоса — чувствительность системы к начальным условиям. Финальная фаза динамической системы конституируется заведомо и управляется аттрактором. Аттрактор является странным.
Новая мировая система есть система хаотическая, сосредоточенная на конфигурации странного аттрактора. Любые попытки реструктурировать глобальную модель МО на старой (традиционной или модернистской) основе будут провалены. Можно бороться с хаосом (во имя порядка), с порядком во имя другого порядка или с порядком во имя хаоса. Но как бороться с хаордом? Как задеть эксцентричную по определению власть, лежащую всегда по касательной? Принцип власти в Империи не в его сокрытости, но в его отсутствии.
Хаорд не подлежит критике или альтернативизации, поскольку он несет собственное отрицание в самом себе. Утверждаем ли мы хаорд или отрицаем его, обе операции только усиливают его власть.
Хаорд представляет себя не как принуждение или норматив, но как сервис, который можно выбрать. А можно ли его не выбирать? Можно, но это не модно. А то, что не модно, то никому не интересно и не нужно. Значит, этот сервис нельзя не выбрать.
Американская гегемония сегодня представляет себя как безальтернативное удобство везде наличествующего планетарного сервиса. Бомбежки Триполи или доставку автоматов и печений киевским неонацистам надо воспринимать как обеспечение услуг клиента.
Нелинейная Америка и геометрия нового антиамериканизма
Новый антиамериканизм должен учитывать эволюцию структуры Империи. Вот почему прежде всего необходимо (вслед за Аленом Соралем) «Понять Империю»53.
Для того чтобы антиамериканизм сработал (would work), мы должны прежде понять новую геометрию господства и структуру хаорда. Имея дело с хаосмосом, и в том числе с «осмосом», проникновением «веществ» сквозь непроницаемые ранее границы обществ, например, информации и ее лучей, мы оказываемся в контексте новой топологии. Нравится ли нам эта топология или нет, не имеет значения. Имеет значение, понимаем ли мы ее или нет.
В США есть многие, кто искренне скажет: «Такая Америка есть нечто чудовищное, и нам самим она совсем не нравится». Забыли вас спросить. Искренность как раз не имеет никакого значения. Америка не может не быть глобальной. Все остальное давно проехали; тот, кто этого не понимает, может отдыхать (хуже, если он «работает на Путина»). Мы имеем дело только с глобальной Америкой как с планетарным обществом риска. Даже если сегодня это все еще не совсем так, завтра точно так. Завтра практически наступило.
Новый американизм (Империя) требует нового антиамериканизма. Его геометрия не ясна. Мы должны строить альтернативу не стране, не идеологии, не ценностной системе, не классу, но тренду, бифуркационным скачкам, хаотическим процессам. Мы имеем дело с фрактальной системой международных отношений, и если она нас не устраивает, нам надо мыслить и альтернативу ей — с опорой на фракталы, суперструны или теорию катастроф. Глобальная Империя комплексна и процессы в ней нелинейны. Нелинейная Америка.
Новый антиамериканизм должен быть постмодернистским, нелинейным и комплексным. Он должен быть эффективным. Возможно, он должен быть локальным, не строить нормативных проектов, не защищать старый порядок и старые порядки, использовать окна возможностей, какие только представляются. Еще возможно он должен быть целиком деструктивным и уж как минимум целиком деконструктивным.
Он должен быть модным.
Евразийский Союз и Евразийский диалог
Создание Евразийского Союза провозглашено одним из важнейших приоритетов российской внешней политики как стратегия третьего срока Президента Путина. Следует присмотреться к этому проекту внимательно и определить его значение как для глобальной архитектуры мира, так и для основных региональных держав, напрямую граничащих с Россией и странами СНГ.
Итак, что понимают в Москве под Евразийским Союзом?
В своей программной статье, провозгласившей ориентацию на Евразийский Союз, Президент Путин не дает всех ответов на острые вопросы, но намечает общие подходы. Во-первых, из статьи явствует, что Евразийский Союз не является синонимом Евразийского Экономического Содружества (ЕврАзЭС), в рамках которого речь идет исключительно об экономическом партнерстве и создании Таможенного союза. И ЕврАзЭС (Россия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Киргизия) и Таможенный союз (Россия, Казахстан, Беларусь) уже существуют и действуют. Не дублирует Евразийский Союз и Организацию Договора о Коллективной Безопасности (Россия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Киргизия, Армения). Речь идет не только об экономической интеграции и едином стратегическом пространстве — речь идет о новом сверхнациональном политическом образовании на пространстве СНГ, то есть о своего рода Евразийской Конфедерации как прямом аналоге Европейскому Союзу. Причем будущее интеграционное образование нельзя сравнивать ни с Российской Империей, ни с СССР; оно создается на основании совершенно иной политической и социальной модели, в основе которой лежат демократические принципы и процедуры, признание суверенитета всех членов Союза, принцип добровольности членства, а также отсутствие какой бы то ни было унифицирующей идеологии. Эти аспекты позволяют сразу отбросить возможные аналогии, на основании которых западная и мировая пресса принялась толковать инициативу Путина. Говорить о том, что Москва «воссоздает Империю или СССР», все равно что отмечать Евросоюз как «возрождение империи Карла Великого», возврат к «планам Наполеона» или реализацию «Пан-Европейского Райха», планы которого вынашивались в СС (проект Долежалека). Это сравнение показывает всю абсурдность поверхностной критики. Евразийский Союз — проект создания совершенно нового демократического интеграционного образования на евразийском пространстве.
В создании Евразийского Союза важнейшую роль играет принцип цивилизации. И здесь мы вплотную подходим к философии евразийства, которая и является идейной средой, подготовившей проект Евразийского Союза. Согласно евразийству Россия исторически и в Новое время была не просто европейской или азиатской страной, или гибридом того и другого, но вполне самостоятельной цивилизацией, где большое значение наряду с восточнославянским и православным фактором имели тюркские и финно-угорские этносоциальные и культурные традиции, а также мусульманские религиозные структуры. Русская культура является евразийской как синтез и нечто вполне своеобразное, а не синкретическое сочетание разрозненных элементов Востока и Запада. И границы этого евразийского «культурного круга» отнюдь не исчерпываются искусственными пределами Российской Федерации, но включают в себя практически все постсоветское пространство, представляющее собой единое целое. Цивилизационное единство подкрепляется сходством социального уклада, экономическими особенностями, энергетическими интересами и военно-стратегическими вызовами. Все это вместе составляет аргументы евразийской интеграции и предпосылки создания Евразийского Союза.
При этом проект Евразийского Союза влечет за собой логически несколько иных фундаментально важных моментов, также относящихся к евразийской философии.
На планетарном уровне евразийство предполагает создание многополярного мира — вопреки однополярному (существующему сегодня при очевидной доминации США) или бесполярному (глобализационный проект, предполагающий появление мирового правительства). Евразийский Союз, предполагающий включение большинства стран СНГ мыслится как полюс многополярного мира наряду с другими полюсами — американским, китайским, европейским, индийским, исламским, латиноамериканским. Для того чтобы быть полноценным полюсом многополярного мира, ни у России, ни тем более у других стран СНГ фатально недостает ресурсов, масштабности, инфраструктуры. Следовательно, не объединившись в самостоятельное и равноправное евразийское образование, все страны СНГ рано или поздно окажутся принудительно включенными в те или иные коалиции с явной гегемонией той или иной силы — Европы, США, Китая, радикального ислама и т. д. Но с каждой из этих гегемоний у стран СНГ будет заведомо намного меньше общего, нежели друг с другом или с Россией. Отсюда прямая зависимость успеха построения многополярного мира и скорости осуществления евразийской интеграции.
Однако для того, чтобы построить многополярный мир, необходимо расстроить однополярное устройство и сорвать проект создания мирового правительства. Поэтому Евразийский Союз представляет собой прямой вызов США и Западу в целом и их глобальной стратегии. Западу в многополярном мире отводится значительная, но не решающая роль. Неудивительно, если Запад будет этому проекту противиться. Создать Евразийский Союз модно только в активной и эффективной конкурентной борьбе на разных уровнях — стратегическом, экономическом, энергетическом, политическом, дипломатическом и т. д. Путин к этому готов и прекрасно это понимает.
Другим важным моментом евразийской политической философии является реорганизация баланса сил на евразийском материке в целом. Евразийский Союз имеет границы, совпадающие в целом с границами стран СНГ, где интеграция должна быть максимально тесной. Но от того, какова будет архитектура отношений между собой других прилегающих евразийских региональных держав (Китай, Индия, Иран, Пакистан, Турция, Афганистан и т. д.), зависит сам успех евразийской интеграции. Таким образом, можно выделить три слоя в контексте евразийского континента:
• ядро интеграции — современная Российская Федерация (называемая геополитиками «heartland», сердечной землей);
• зона Евразийского Союза (территория стран СНГ, предполагающая вхождение в единое политическое образование, своего рода Конфедерацию);
• политическое пространство всей Евразии, структурированное вокруг других силовых полюсов (Китай, Индия, Пакистан, Иран, Турция, Афганистан и т. д.).
Эти три слоя в теории многополярности призваны быть максимально независимыми от США и Запада и организовать свои отношения в рамках строго регионального партнерства и в своих интересах. Каждая из региональных держав приглашается предлагать свои интеграционные проекты по аналогии с Евразийским Союзом.
Для Китая аналогом Евразийского Союза может быть интеграция с Тайванем. Для Индии — укрепление связей с Непалом и Бангладеш, а также нормализация конфликтов с Пакистаном. Для Ирана — создание зоны шиитского влияния как в Афганистане и на Южном Кавказе, так и на Ближнем Востоке (Ирак, Сирия, Бахрейн, Ливан и т. д.). Для Пакистана — интеграция с пуштунскими регионами Афганистана. Для Турции — укрепление территориальной целостности, сохранение контроля над Северным Кипром и Курдистаном.
Некоторые зоны влияния могут пересекаться на основании общности тех или иных факторов — религиозных, этнических, политических, стратегических и т. д.
Вместе с тем третий пояс Евразии предполагает появление в будущем координационной структуры, призванной осуществлять координацию основных региональных держав между собой. Отчасти эта функция возложена на Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Но исторически и даже символически в ней бросается в глаза непропорционально большая роль Китая, а также отсутствие Ирана и Турции, ключевых игроков в Евразии. Поскольку ШОС решает ряд стоящих перед этой организацией вопросов, она вполне может существовать и дальше. Но многополярный мир и евразийская философия требуют новой координационной модели — создания общей площадки Стран «Евразийского Диалога» или «Евразийского Форума» (вариант «Евразийской Конференции»). В этой структуре должны изначально быть учредителями все ключевые игроки Евразии, разделяющие императив многополярного мироустройства и заинтересованные в успешной региональной интеграции.
Так как Россия занимает центральное место в геополитическом пространстве континента, то можно представить себе «Евразийский Диалог» как набор осей, сходящихся в точке Москвы:
• юго-западная ось — Анкара–Москва;
• южная ось — Тегеран–Москва;
• юго-восточная ось (1) — Исламабад–Москва;
• юго-восточная ось (2) — Нью-Дели–Москва;
• восточная ось — Пекин–Москва.
Кроме того, между всеми этими центрами сил могут быть дополнительные связи и соответствующие структуры.
К Евразийскому Союзу едва ли смогут примкнуть крупные региональные державы, так как степень предполагаемой интеграции здесь слишком высока. Равно как и Россия и страны СНГ едва ли смогут стать естественными участниками интеграционных проектов, строящихся вокруг других евразийских центров. Но осуществление всех этих интеграционных циклов важно не только для тех, кто их осуществляет, но и для всех остальных евразийских держав: многополярный мир невозможно построить в одиночку, и в этом смысле в успехе Евразийского Союза должны быть кровно заинтересованы даже те страны, которые непосредственно в нем принимать участия не будут. Верно и обратное: Россия и страны СНГ должны активно поддерживать интеграционные инициативы других евразийских стран и оказывать им всяческую поддержку.
Если мы сложим наиболее значимые козыри потенциальных участников «Евразийского Диалога», то получим весьма внушительную картину:
• Китай (мощнейшая экономика, огромный демографический потенциал, технологический рывок модернизации, самобытная цивилизация);
• Россия (ядерный потенциал, огромные территории, богатейшие запасы природных ресурсов, традиции политической независимости, особая культура);
• Иран (активное политико-религиозное мессианство, древнейшая культура, жесткая оппозиция однополярному миру, западной глобализации и постмодернистской культуре);
• Индия (бурное развитие промышленности, высоких технологий, мощная демография, древнейшая культура);
• Турция (динамичное развитие, геополитическая активность в регионе, социокультурные особенности);
• Пакистан (ядерное оружие, высокая демография, потенциал активной политической исламской культуры).
Если поодиночке конкуренция с США и Западом у всех этих стран проблематична, то в совокупности они представляют собой гигантскую планетарную силу, способную совместно диктовать Западу условия (по крайней мере, отстоять право на свободное поведение на пространстве собственных стран и прилегающих зон влияния без опасения экспорта цветных революций и иных субверсивных стратегий, применяемых Западом).
Многополярный мир, Евразийский Союз и евразийство в широком смысле связаны между собой неразрывно. Если мы совместно не отстоим право на то, чтобы сохранять и развивать свои оригинальные цивилизационные уклады, то утратим независимость и исчезнем с лица истории. Поэтому евразийство и многополярность являются абсолютными императивами будущего.
Часть 2. Теория Многополярного Мира
Введение: многополярность — определение понятия и разграничение смыслов
Первые подходы к разработке ТММ
С чисто научной точки зрения, полноценной и законченной Теории Многополярного Мира (ТММ)54 на сегодняшний день не существует. Ее нельзя отыскать среди классических теорий и парадигм Международных Отношений (МО)55. Тщетно мы будем перебирать и новейшие постпозитивистские теории. Не до конца она разработана и в самой гибкой и синтетической области — в сфере геополитических исследований, сплошь и рядом откровенно осмысляющей то, что в Международных Отношениях остается за кадром или трактуется слишком пристрастно.
Тем не менее все больше трудов, посвященных внешней политике, мировой политике, геополитике и собственно Международным Отношениям, посвящается теме многополярности. Все большее число авторов пытается осмыслить и описать многополярность как модель, явление, прецедент или возможность.
Тематики многополярности так или иначе касались в своих работах специалист в МО Дэвид Кампф (в статье «Появление многополярного мира»56), историк Йельского университета Пол Кеннеди (в книге «Взлет и падение великих держав»57), геополитик Дэйл Уолтон (в книге «Геополитика и великие державы в XXI веке. Многополярность и революция в стратегической перспективе»58), американский политолог Дилип Хиро (в книге «После империи. Рождение многополярного мира»59) и другие. Ближе всего, на наш взгляд, к пониманию сущности многополярности подошел британский специалист в МО Фабио Петито, попытавшийся построить серьезную и обоснованную альтернативу однополярному миру на основе правовых и философских концептов К. Шмитта60.
Неоднократно упоминают «многополярное мироустройство» в своих речах и текстах политические деятели и влиятельные журналисты. Так, госсекретарь Мадлен Олбрайт, вначале называвшая Соединенные Штаты «незаменимой нацией», 2 февраля 2000 г. заявила, что США не хотят «установления и обеспечения соблюдения» однополярного мира и что экономическая интеграция уже создала «определенный мир, который можно даже назвать многополярным». 26 января 2007 г. в редакторской колонке «New York Times» прямо говорилось о «появлении многополярного мира» вместе с Китаем, который «занимает отныне параллельное место за столом с другими центрами силы, такими как Брюссель или Токио». 20 ноября 2008 г. в докладе «Глобальные тенденции-2025» Национального совета по разведке США указано, что появление «глобальной многополярной системы» следует ожидать в течение двух десятилетий.
С 2009 г. президента США Барака Обаму многие рассматривали как провозвестника «эры многополярности», полагая, что он будет уделять в американской внешней политике приоритет растущим центрам силы, таким как Бразилия, Китай, Индия и Россия. 22 июля 2009 г. вицепрезидент Джозеф Байден во время посещения Украины заявил: «Мы пытаемся построить многополярный мир».
И тем не менее во всех этих книгах, статьях и заявлениях не содержится ни точного определения, что такое многополярный мир (ММ), ни тем более какой-то стройной и непротиворечивой теории его построения (ТММ). Чаще всего обращение к «многополярности» подразумевает лишь указание на то, что в настоящее время в процессе глобализации у бесспорного центра и ядра современного мира (США, Европы и шире — «глобального Запада») на горизонте появляются определенные конкуренты — бурно развивающиеся или просто могущественные региональные державы и блоки держав, принадлежащие ко «Второму» миру. Сравнение потенциалов США и Европы, с одной стороны, и растущих новых центров силы (Китай, Индия, Россия, страны Латинской Америки и т. д.), с другой, все больше убеждает в относительности традиционного превосходства Запада и ставит новые вопросы относительно логики дальнейших процессов, предопределяющих глобальную архитектуру сил в планетарном масштабе — в политике, экономике, энергетике, демографии, культуре и т. д.
Все эти замечания и наблюдения чрезвычайно важны для построения Теории Многополярного Мира, но отнюдь не восполняют собой ее отсутствия. Их следует учитывать при построении такой теории, однако стоит заметить, что они носят фрагментарный и обрывочный характер, не поднимаясь даже на уровень первичных теоретических концептуальных обобщений.
И тем не менее обращение к многополярному мироустройству все чаще можно услышать на официальных саммитах, международных конференциях и конгрессах. Ссылки на многополярность наличествуют в целом ряде важных межправительственных соглашений61 и в текстах концепций Национальной безопасности и оборонной стратегии ряда влиятельных и могущественных стран (Китай, Россия, Иран, отчасти Евросоюз). Поэтому сегодня как никогда актуально сделать шаг к тому, чтобы начать полноценную разработку Теории Многополярного Мира в соответствии с базовыми требованиями академического научного подхода.
Многополярность не совпадает с национальной моделью организации мира по логике Вестфальской системы
Прежде чем приступить к построению Теории Многополярного Мира (ТММ) вплотную, следует строго разграничить исследуемую концептуальную зону. Для этого рассмотрим основные понятия и определим те формы глобального мироустройства, которые точно не являются многополярными и, соответственно, по отношению к которым многополярность является альтернативой.
Начнем с Вестфальской системы, признающей абсолютный суверенитет за Государством нацией и строящей на этом основании все правовое поле Международных Отношений. Эта система, сложившаяся после 1648 года (окончания 30-летней войны в Европе), прошла несколько стадий своего становления и в той или иной степени соответствовала объективной реальности до конца Второй мировой войны. Эта система родилась из отвержения претензий средневековых Империй на универсализм и «божественную миссию», соответствовала буржуазным реформам в европейских обществах и основывалась на положении, что высшим суверенитетом обладает лишь национальное Государство и вне его нет никакой другой инстанции, которая имела бы юридическое право вмешиваться во внутреннюю политику этого Государства, какими бы целями и миссиями (религиозными, политическими или иными) она ни руководствовалась. С середины XVII века по середину XX этот принцип предопределял европейскую политику и, соответственно, переносился с определенными поправками и на страны остального мира.
Вестфальская система изначально относилась только к европейским державам, а их колонии считались лишь их продолжением, не обладающим достаточным политическим и экономическим потенциалом для того, чтобы претендовать на самостоятельную суверенность. С начала XX века в ходе деколонизации тот же самый Вестфальский принцип был распространен и на бывшие колонии.
Эта Вестфальская модель предполагает юридически полное равенство между собой всех суверенных Государств. В такой модели в мире есть столько полюсов принятия внешнеполитических решений, сколько суверенных Государств. Это правило (по умолчанию) по инерции действует до сих пор, и на нем строится все международное право.
Но на практике, конечно же, между различными суверенными Государствами существует неравенство и иерархическая соподчиненность. В Первой и Второй мировых войнах распределение сил между самыми крупными мировыми державами вылилось в противостояние отдельных блоков, где решения принимались в той стране, которая была самой могущественной среди союзников. По результатам Второй мировой войны вследствие поражения нацистской Германии и стран Оси в глобальной системе сложилась двухполярная схема международных отношений, называемая Ялтинской. De jure международное право продолжало признавать абсолютный суверенитет любого национального Государства. De facto же основные решения, касающиеся центральных вопросов миропорядка и глобальной политики, принимались только в двух центрах — в Вашингтоне и в Москве.
Многополярный мир отличается от классической Вестфальской системы тем, что не признает за отдельным национальным Государством, юридически и формально суверенным, статуса полноценного полюса. А значит, количество полюсов многополярного мира должно быть существенно меньше, чем количество признанных (и тем более непризнанных) национальных Государств. Подавляющее большинство этих Государств не способно сегодня в одиночку обеспечить ни своей безопасности, ни своего процветания перед лицом теоретически возможного конфликта с гегемоном (в роли которого в нашем мире однозначно выступают США). А следовательно, они являются политически и экономически зависимыми от внешней инстанции. Будучи зависимыми, они не могут быть центрами по настоящему самостоятельной и суверенной воли в глобальных вопросах миропорядка.
Многополярность не есть такая система международных отношений, которая настаивает на том, чтобы юридическое равноправие национальных Государств рассматривалось как фактическое положение дел. Это лишь фасад совершенно иной картины мира, основанной на реальном, а не номинальном балансе сил и стратегических потенциалов. Многополярность оперирует с тем положением дел, который существует не столько de jure, сколько de facto, и отталкивается от констатации принципиального неравенства между собой национальных Государств в современной и эмпирически фиксируемой мира. Более того, структура этого неравенства такова, что второстепенные и третьестепенные державы не способны отстоять свой суверенитет перед лицом возможного внешнего вызова со стороны гегемонистской державы ни в какой преходящей блоковой конфигурации. А значит, этот суверенитет является сегодня юридической фикцией.
Многополярность не является двухполярностью
После Второй мировой войны в мире сложилась двухполюсная система, называемая также Ялтинской. Формально она продолжала настаивать на признании абсолютного суверенитета всех Государств, и по этому принципу была организована ООН, продолжающая дело Лиги Наций. Однако на практике в мире возникло два центра глобального принятия решений — США и СССР. США и СССР представляли собой две альтернативные политэкономические системы: соответственно, глобальный капитализм и глобальный социализм, поэтому стратегическая двухполярность опиралась на идеологический, мировоззренческий дуализм — либерализм против марксизма.
Двухполюсный мир основывался на экономическом и военностратегическом паритете США и СССР, на симметричной сопоставимости потенциала каждого из противоборствующих лагерей. И в то же время ни у одной другой страны, относящейся к тому или иному лагерю, не было совокупного могущества, даже отдаленно сравнимого с могуществом Москвы или Вашингтона. Следовательно, в глобальном масштабе существовало два гегемона, которые были окружены констелляцией союзных (полувассальных в стратегическом смысле) стран. В такой модели национальный суверенитет стран, формально признаваемый, постепенно утрачивал свое значение. В первую очередь, любая страна зависела от глобальной политики того гегемона, к зоне влияния которого она относилась. Поэтому она не была самостоятельна, и региональные конфликты (как правило, развертывающиеся в зоне Третьего мира) быстро перерастали в противостояние двух сверхдержав, стремящихся перераспределить баланс планетарного влияния на «спорных территориях». Этим объясняются конфликты в Корее, Вьетнаме, Анголе, Афганистане и т. д.
В двухполюсном мире существовала и третья сила — Движение Неприсоединения. Оно включала в себя некоторые страны Третьего мира, отказывавшиеся делать однозначный выбор в пользу либо капитализма, либо социализма и предпочитавшие лавировать между глобальными антагонистическими интересами США и СССР. До определенной степени некоторым это удавалось, но сама возможность неприсоединения предполагала наличие именно двух полюсов, которые в той или иной степени уравновешивали друг друга. При этом сами «неприсоединившиеся страны» ни в коей мере не способны были создать «третий полюс», уступая по основным параметрам сверхдержавам, будучи разрозненными и не консолидированными между собой, не объединенными никакой общей социально-экономической платформой. Весь мир делился на капиталистический Запад (первый мир, the West), социалистический Восток (второй мир) и на «всех остальных» (the Rest, Третий мир), причем «все остальные» представляли собой во всех смыслах мировую периферию, где периодически сталкивались между собой интересы сверхдержав. Между самими сверхдержавами в силу паритета конфликт был почти исключен (в силу гарантированного взаимоуничтожения друг друга с помощью ядерного оружия). Преимущественной зоной для частичного пересмотра баланса сил служили страны периферии (Азии, Африки, Латинской Америки).
После краха одного из двух полюсов (распада СССР в 1991 году) эта двухполярная система рухнула. Это создало предпосылки для появления альтернативного мироустройства. Многие аналитики и специалисты в МО справедливо заговорили о «конце Ялтинской системы»62. Признавая de jure суверенитет, de facto Ялтинский мир строился на принципе баланса двух симметричных и относительно равновесных гегемоний. С уходом с исторической арены одной из гегемоний вся система прекратила свое существование. Пришло время однополярного мироустройства или «однополярного момента»63.
Многополярный мир не является двухполярным миром (таким, как мы его знали во второй половине ХХ века), т. к. сегодня в мире не существует ни одной державы, способной в одиночку стратегически противостоять мощи США и стран НАТО, а кроме того, нет ни одной обобщающей и внятной идеологии, способной сплотить значительную часть человечества в жестком идейном противостоянии идеологии либеральной демократии, капитализма и «прав человека», на которой основывается новая, на сей раз единоличная гегемония США. Ни современная Россия, ни Китай, ни Индия, ни какое-то еще Государство не может претендовать в данных условиях в одиночку на статус второго полюса. Восстановление двухполярности невозможно ни по идеологическим соображениям (конец широкой притягательности марксизма), ни по стратегическому потенциалу и накопленным военно-техническим ресурсам (США и страны НАТО за последние 30 лет вырвались вперед настолько, что симметричная конкуренция с ними в военно-стратегической, экономической и технической сферах не под силу ни одной стране).
Многополярность несовместима
с однополюсным миром
Распад СССР означал одновременно исчезновение и мощной симметричной сверхдержавы и целого гигантского идеологического лагеря. Это был конец одной из двух глобальных гегемоний. Вся структура миропорядка с этого момента необратимо и качественно изменилась. При этом оставшийся полюс — во главе с США и на основе либерально-демократической капиталистической идеологии — сохранился как явление и продолжил расширение своей социально-политической системы (демократии, рынка, идеологии прав человека) в глобальном масштабе. Это и называется однополярным миром, однополюсным мироустройством. В таком мире наличествует единственный центр принятия решений по основным глобальным вопросам. Запад и его ядро, евроатлантическое сообщество во главе с США, оказались в роли единственной оставшейся в наличии гегемонии. Все пространство планеты в таких условиях представляет собой тройное районирование (подробно описанное в неомарксистской теории И. Валлерстайна64):
– зона ядра («богатый Север», «центр»);
– зона мировой периферии («бедный Юг», «периферия»);
– промежуточная зона («полупериферия», к которой относятся активно развивающиеся по пути капитализма крупные страны: Китай, Индия, Бразилия, некоторые страны Тихоокеанского региона, а также по инерции сохраняющая значительный стратегический, экономический и энергетический потенциал Россия).
Однополярный мир в 1990-е годы казался окончательно устоявшейся реальностью, и некоторые американские аналитики провозгласили на этом основании тезис о «конце истории»65 (Ф. Фукуяма). Этот тезис означал, что мир становится полностью однородным идеологически, политически, экономически и социально, и отныне все процессы, в нем протекающие, будут представлять собой не историческую драму, основанную на борьбе идей и интересов, но экономическую (и относительно мирную) конкуренцию хозяйствующих субъектов — аналогичную тому, как строится внутренняя политика свободных демократических либеральных режимов. Демократия становится глобальной. На планете есть только Запад и его окрестности, т. е. те страны, которые постепенно в него интегрируются.
Наиболее четкое оформление теории однополярности предложили американские неоконсерваторы, которые подчеркивали роль США в новом глобальном мироустройстве, подчас открыто провозглашая США «новой Империей» (Р. Каплан66), «благой глобальной гегемонией» (У. Кристол, Р. Кэйган67) и предвидя наступление «американского века» (Project for New American Century68). У неоконсерваторов однополярность приобрела теоретическое обоснование. Будущее мироустройство виделось как американоцентричная конструкция, где в ядре располагаются США в роли глобального арбитра и воплощения принципов «свободы и демократии», и вокруг этого центра структурируется констелляция остальных стран, воспроизводящих американскую модель с разной степенью точности. Они различаются по географии и по степени сходства с США:
– ближний круг — страны Европы и Япония;
– далее бурно развивающиеся либеральные страны Азии;
– затем все остальные.
Все пояса, расположенные вокруг «глобальной Америки» на разных орбитах, включены в процесс «демократизации» и «американизации». Распространение американских ценностей идет параллельно с реализацией практических американских интересов и расширением зоны прямого американского контроля в глобальном масштабе.
На стратегическом уровне однополярность выражается в центральной роли США в блоке НАТО, и далее, в асимметричном превосходстве совокупного военного потенциала стран НАТО над всеми остальными державами мира. Параллельно этому Запад превосходит другие незападные страны в экономическом потенциале, уровне развития высоких технологий и т. д. И самое главное: именно Запад является той матрицей, где исторически сложилась и утвердилась система ценностей и норм, которые сегодня рассматриваются как универсальный эталон для всех остальных стран мира. Это можно назвать глобальной интеллектуальной гегемонией, которая, с одной стороны, обслуживает техническую инфраструктуру глобального контроля, а с другой — стоит в центре доминирующей планетарной парадигмы. Материальная гегемония идет рука об руку с гегемонией духовной, интеллектуальной, когнитивной, культурной, информационной.
В принципе, американская политическая элита руководствуется именно таким осознанно гегемонистским подходом, однако отчетливо и прозрачно об этом говорят неоконсерваторы, тогда как представители иных политических и идейных течений предпочитают более обтекаемые выражения. Даже критики однополярного мира в самих США не ставят под сомнение принцип «универсальности» американских ценностей и стремление к тому, чтобы утвердить их на глобальном уровне. Возражения сосредоточены в сфере того, насколько такой проект реалистичен в среднесрочной и долгосрочной перспективе и смогут ли США в одиночку нести бремя глобальной мировой империи. Проблемы на пути такой прямой и открытой американской доминации, казавшейся свершившимся фактом в 1990-е годы, привели некоторых американских аналитиков (того же Ч. Краутхаммера, который и ввел это понятие) к тому, чтобы говорить о конце «однополярного момента»69.
Но несмотря ни на что, именно однополярность в тех или иных — явных или завуалированных — формах является той моделью мироустройства, которая стала реальностью после 1991 года и остается таковой вплоть до сегодняшнего дня.
Однополярность на практике соседствует с номинальным сохранением Вестфальской системы и с инерционными остатками двухполярного мира
De jure по-прежнему признается суверенитет всех национальных Государств, а Совет Безопасности ООН отчасти все еще отражает баланс сил, соответствующий реалиям «холодной войны». Соответственно, американская однополярная гегемония de facto наличествует одновременно с рядом международных институтов, выражающих баланс сил иных эпох и циклов в истории международных отношений. Противоречия между положением дел de facto и de jure постоянно напоминают о себе — в частности, в актах прямой интернации США или западных коалиций в суверенные Государства (подчас в обход ветирования подобных действий Советом Безопасности ООН). В таких случаях, как вторжение войск США в Ирак в 2003 году, мы видим пример и одностороннего нарушения принципа суверенитета независимого Государства (игнорирование Вестфальской модели), и отказ учитывать позицию России (В. Путина) в Совете Безопасности ООН, и даже невнимание Вашингтона к протестам европейских партнеров по НАТО (Франции Ж. Ширака и Германии Г. Шредера).
Наиболее последовательные сторонники однополярности (например, республиканец Дж. Маккейн) настаивают на приведении международного порядка в соответствии с реальным балансом сил. Они предлагают создание вместо ООН иной модели — «Лиги Демократий»70, в которой доминирующие позиции США, т. е. однополярность, были бы закреплены юридически. Такой проект юридического оформления в структуре международных отношений постъялтинской американской гегемонии, легализация однополярного мира и гегемонистского статуса «американской империи» — одно из возможных направлений эволюции мировой политической системы.
Совершенно очевидно, что многополярное мироустройство не просто отличается от однополярного, но представляет собой его прямую антитезу. Однополярность предполагает одну гегемонию и один центр принятия решений, многополярность настаивает на нескольких центрах, при том, что ни один из них не обладает исключительным правом и призван учитывать позиции других. Многополярность, таким образом, есть прямая логическая альтернатива однополярности. Между ними не может быть компромисса: по законам логики — либо мир является однополярным, либо многополярным. При этом важно не то, как юридически оформлена та или иная модель, а какой она является de facto. В эпоху «холодной войны» дипломаты и политики неохотно признавали «двухполярность», которая, тем не менее, была очевидным фактом. Поэтому следует разделять дипломатический язык и конкретную реальность. Однополярный мир — это фактическое устройство миропорядка на сегодняшний день. Можно лишь спорить о том, хорошо это или плохо, является ли это рассветом такой системы или, напротив, закатом, продлится ли это долго или, напротив, быстро закончится. Но факт остается фактом. Мы живем в однополярном мире. Однополярный момент все еще длится (хотя некоторые аналитики убеждены, что уже подходит к концу).
Многополярный мир не является бесполярным
Американские критики жесткой однополярности и особенно идеологические конкуренты неоконсерваторов, сосредоточенные в «Совете Международных Отношений» (Council on Foreign Relations), предложили другой термин вместо однополярности — бесполярность (nonpolarity)71. Этот концепт строится на том, что процессы глобализации будут развертываться и дальше и западная модель мироустройства станет расширять свое присутствие среди всех стран и народов земли. Таким образом, интеллектуальная и ценностная гегемония Запада продолжится. Глобальный мир будет миром либерализма, демократии, свободного рынка и прав человека. Но роль США как национальной державы и флагмана глобализации будет, согласно сторонникам этой теории, сокращаться. Вместо прямой американской гегемонии начнет складываться модель «мирового правительства», в котором примут участие представители разных стран, солидарных с общими ценностями и двигающихся к установлению единого социально-политического и экономического пространства на территории всей планеты. Снова мы имеем здесь дело с аналогом «конца истории» Ф. Фукуямы, только описанным в иных терминах.
Бесполярный мир будет основан на кооперации демократических (по умолчанию) стран. Но постепенно в процесс становления должны включаться и негосударственные акторы — НПО, общественные движения, отдельные группы граждан, сетевые сообщества и т. д.
Основной практикой в строительстве бесполярного мира является распыление уровня принятия решений от одной инстанции (сегодня это Вашингтон) к многим инстанциям более низкого уровня — вплоть до планетарных референдумов в онлайн режиме по поводу важнейших событий и действий всего человечества. Экономика вытеснит политику, а рыночная конкуренция сметет все таможенные страновые барьеры. Безопасность превратится из дела Государств в дело самих граждан. Наступит эра глобальной демократии.
Эта теория в основных чертах совпадает с теорией глобализации и представляется как этап, который должен прийти на смену однополярному миру. Но только при том условии, что продвигаемая сегодня США и странами Запада социально-политическая, ценностная, технологическая и экономическая модель (либеральная демократия) станет универсальным явлением, и надобность в жесткой защите демократических и либеральных идеалов в лице самих США отпадет — все режимы, сопротивляющиеся Западу, демократизации и американизации, к моменту наступления бесполярного мира окажутся ликвидированы. Элита же всех стран должна стать однородной, капиталистической, либеральной и демократической — одним словом, «западной», независимо от того, каким будет ее историческое, географическое, религиозное и национальное происхождение.
Проект бесполярного мира поддерживает целый ряд очень влиятельных политических и финансовых групп — от Ротшильдов до Дж. Сороса и его фондов.
Этот проект бесполярного мира обращен в будущее. Он мыслится как та глобальная формация, которая должна прийти на смену однополярности; как то, что за ней последует. Это не столько альтернатива, сколько продолжение. И это продолжение станет возможным только по мере того, как центр тяжести в обществе будет перемещаться от сегодняшнего сочетания альянса двух уровней гегемонии — материальной (американский ВПК, западные экономика и ресурсы) и духовной (нормативы, процедуры, ценности) — к чисто интеллектуальной гегемонии, а значение материальной доминации будет постепенно сокращаться. Это и есть глобальное информационное общество, где основные процессы властвования станут развертываться в сфере разума, через управление над умами, контроль над сознанием, программированием виртуального мира.
Многополярный мир никак не сочетается с проектом мира бесполярного, т. к. не принимает ни обоснованности однополярного момента в качестве прелюдии к будущему миропорядку, ни интеллектуальной гегемонии Запада, ни универсальности его ценностей, ни распыления уровня принятия решений на планетарное множество без учета их культурной и цивилизационной принадлежности. Бесполярный мир предполагает, что американская модель плавильного котла будет распространена на весь мир. В результате этого окажутся стертыми все различия между народами и культурами и индивидуализированное, атомарное человечество превратится в космополитическое «гражданское общество» без границ. Многополярность же считает, что центры принятия решения должны остаться на достаточно высоком уровне (но не в одной инстанции — как это имеет место быть сегодня в условиях однополярного мира), а культурные особенности каждой конкретной цивилизации — сохраняться и укрепляться (а не растворяться в едином космополитическом множестве).
Многополярность не есть многосторонность
Еще одной моделью миропорядка, несколько дистанцирующейся от прямой американской гегемонии, является многосторонний мир (multilaterаlism). Эта концепция очень распространена в США в Демократической партии, именно ее формально придерживается во внешней политике администрация президента Б. Обамы. В контексте американских внешнеполитических дебатов этот подход противопоставляется однополярности, на которой настаивают неоконсерваторы.
Многосторонность (multilateralism) означает на практике то, что США не должны действовать в области международных отношений, целиком и полностью полагаясь только на собственные силы и ставя всех своих союзников и «вассалов» в приказной манере перед фактом. Вместо этого Вашингтон должен учитывать позиции партнеров, убеждать и аргументировать свои решения в диалоге с ними, привлекать их на свою сторону с помощью рациональных доводов и подчас компромиссных предложений. США в такой ситуации должны быть «первыми среди равных», а не «диктатором среди подчиненных». Это накладывает на внешнюю политику США определенные обязательства перед союзниками по глобальной политике и требует подчинения общей стратегии. Эта общая стратегия в данном случае есть стратегия Запада по установлению глобальной демократии, рынка и имплементации идеологии прав человека в планетарном масштабе. Но в этом процессе США, будучи флагманом, не должны прямо отождествлять свои национальные интересы с «универсальными» ценностями западной цивилизации, от имени которой они выступают. В определенных случаях предпочтительней действовать в коалиции, а иногда даже идти партнерам на уступки.
Многосторонность отличается от однополярности тем, что акцент здесь ставится на Западе в целом, и особенно на его «ценностной» (то есть «нормативной») составляющей. В этом апологеты многостороннего подхода сближаются с теми, кто выступает за бесполярный мир. Между многосторонностью и бесполярностью различие состоит только в том, что многосторонность ставит акцент на координацию между собой демократических западных стран, а бесполярность включает в качестве акторов и негосударственные инстанции — НПО, сети, общественные движения и т. д.
Показательно, что на практике многосторонность политики Обамы, неоднократно озвученная им самим и госсекретарем США Хилари Клинтон, немногим отличается от прямого и прозрачного империализма эпохи Джорджа Буша-младшего, при котором доминировали неоконсерваторы. Военные интервенции США продолжились (Ливия), американские войска сохраняли свое присутствие в оккупированных Афганистане и Ираке.
Многополярный мир не совпадает с многосторонним миропорядком, т. к. не согласен с универсализмом западных ценностей и не признает правомочность стран «богатого Севера» — ни в одиночку, ни коллективно — на то, чтобы действовать от лица всего человечества и выступать в качестве пусть составного, но единственного центра принятия решений по основным наиболее значимым вопросам.
Резюме
Разграничение значения понятия «многополярный мир» с цепочкой рядоположенных или альтернативных терминов очерчивает то смысловое поле, в котором нам предстоит в дальнейшем строить теорию многополярности. До этого момента мы говорили только о том, чем не является многополярное мироустройство, сами отрицания и различения позволяют нам по контрасту выделить ряд конституирующих и вполне положительных характеристик.
Если обобщить эту вторую положительную часть, вытекающую из серии проведенных разграничений, получаем приблизительно такую картину.
1. Многополярный мир представляет собой радикальную альтернативу однополярному миру (существующему по факту в нынешней ситуации) в том, что настаивает на наличии нескольких независимых и суверенных центров принятия глобальных стратегических решений на планетарном уровне.
2. Эти центры должны быть достаточно оснащены и независимы материально, чтобы иметь возможность на материальном уровне отстоять свой суверенитет перед лицом прямого вторжения вероятного противника, в качестве образца которого следует брать максимально могущественную на сегодняшний день силу. Это требование сводится к возможности противостоять материальной и военно-стратегической гегемонии США и стран НАТО.
3. Эти центры принятия решений не обязаны признавать в качестве sine qua non универсализм западных нормативов и ценностей (демократия, либерализм, свободный рынок, парламентаризм, права человека, индивидуализм, космополитизм и т. д.) и могут быть полностью независимы от духовной гегемонии Запада.
4. Многополярный мир не предполагает возврата к двухполюсной системе, т. к. сегодня ни стратегически, ни идеологически не существует какой-то одной силы, способной в одиночку противостоять материальной и духовной гегемонии современного Запада и его флагмана — США. Полюсов в многополярном мире должно быть больше, чем два.
5. Многополярный мир не рассматривает всерьез суверенитет существующих национальных Государств, пока он декларируется на чисто юридическом уровне и не подтвержден наличием достаточного силового, стратегического, экономического и политического потенциала. Чтобы быть суверенным субъектом в XXI веке, национального Государства более недостаточно. Реальным суверенитетом может обладать в таких условиях только совокупность, коалиция Государств. Вестфальская система, продолжающая существовать de jure, не отражает более реалий системы международных отношений и требует пересмотра.
6. Многополярность несводима ни к бесполярности, ни к многосторонности, т. к. не помещает центр принятия решений (полюс) ни в инстанцию мирового правительства, ни в клуб США и их демократических союзников («глобальный Запад»), ни на подгосударственный уровень сетей, НПО и иных инстанций гражданского общества. Полюс должен локализовываться где-то еще.
Эти шесть пунктов задают камертон дальнейшим разработкам и концентрированно воплощают в себе основные черты многополярности. Однако это описание, хотя и существенно продвигает нас в понимании сути многополярности, еще недостаточно, чтобы претендовать на теорию. Это — первоначальный вывод, с которого полноценное теоретизирование только начинается.
На сегодняшний день ни в одной из наличествующих парадигм нет готовой Теории Многополярного Мира, и, более того, в существующем контексте места для такой теории не зарезервировано. Долгое время область МО считалась «американской наукой», т. к. развивалась преимущественно в США. Но в последние десятилетия ее изучение получило более широкое распространение в научных заведениях и институтах всего мира. Однако до сих пор эта дисциплина носит на себе явный отпечаток западоцентричности. Она была разработана в западных странах в эпоху Модерна и сохраняет историческую и географическую связь с тем контекстом, в котором она возникла изначально и где проходило ее становление. Это выражается, в частности, и в главной оси дебатов, вокруг которых складывалась МО как дисциплина (реалисты vs либералы), что отражало специфику основных забот и проблем собственно американской внешней политики (повторяя в чем-то классический для США спор изоляционистов и экспансионистов).
На последнем этапе, и особенно в среде постпозитивистских подходов, явно проявилась тенденция к релятивизации американоцентризма (западоцентризма в целом), отчетливо дали о себе знать импульсы к демократизации теорий и методов, к расширению критериев, к более равномерному распределению акторов МО и более внимательному («густому») анализу их семантических структур и идентичностей. Это — шаг в сторону релятивизации западной эпистемологической гегемонии. Но до настоящего времени даже критика западной гегемонии строилась по законам самой гегемонии. Так, типично западные концепты демократии и демократизации, свободы и равенства переносятся на незападные общества и иногда даже противопоставляются Западу, как будто эти концепты представляют собой «нечто универсальное»72. Если противостояние Западу идет под знаменами универсализма западных ценностей, такое противостояние обречено на то, чтобы остаться стерильным.
Поэтому для того, чтобы выйти за границы западоцентричной цивилизации, необходимо встать на дистанцию в отношении всех ее теоретических концептов и методологических стратегий — даже тех, которые содержат критику самого Запада. По-настоящему альтернативная модель МО и, соответственно, структура миропорядка может сложиться только в оппозиции ко всему спектру западных теорий в МО — в первую очередь позитивистских, но отчасти и постпозитивистских.
Отсутствие среди рассмотренных нами теорий МО Теории Многополярного Мира (ТММ) оказывается не досадной случайностью или небрежением, но вполне закономерным фактом: ее в этом контексте, так или иначе закодированном установками западной когнитивной (эпистемологической) гегемонии, просто не может быть.
Тем не менее теоретически она вполне может быть построена. И учет широкой панорамы существующих теорий МО только поможет ее корректно сформулировать.
Если мы всерьез приступим к построению такой теории и изначально займем дистанцию по отношению к когнитивной гегемонии Запада в сфере МО, т. е. если мы поставим под вопрос существующий спектр теорий МО в качестве аксиоматической базы, то на втором уровне мы вполне можем заимствовать из этой сферы отдельные составляющие, всякий раз подробно оговаривая, на каких условиях и в каком контексте мы это осуществляем. Ни одна из существующих теорий МО, строго говоря, не релевантна для построения Теории Многополярного Мира. Но многие из них содержат в себе элементы, которые, напротив, вполне можно при определенных условиях в ТММ интегрировать.
Обзор основных теорий Международных Отношений
ТММ и классические теории МО
Прежде чем приступить к развертыванию собственно Теории Многополярного Мира, необходимо провести обзор основных теорий Международных Отношений. Без этого мы не сможем точно найти место для этой теории и соотнести ее с существующим научным контекстом. Как мы уже говорили ранее, никакой законченной Теории Многополярного Мира в области МО пока не существует. Поэтому для ее корректной институционализации требуется привлекать обширный материал, относящийся к иным теориям, ставшим к настоящему времени классическими.
Ранее мы определили понятие многополярности, соотнеся его со смежными концептами, с которыми оно сопоставляется или которым противопоставляется. Таким путем мы получили смысловое пространство, в границах которого помещается предмет нашего теоретизирования. Понятие многополярности определено.
Теперь следует поступить аналогичным образом с базовыми теориями МО. Кратко описав каждую из них, мы сосредоточимся на их принципиальных расхождениях с Теорией Многополярного Мира, а это задаст нам границы уже не только понятийного поля, но и самой теории.
Теория Многополярного Мира предполагает, что мы ставим перед собой цель не просто изучить явление многополярности или проект многополярности в рамках той или иной существующей теории МО, но что мы намерены обосновать новую теорию, исходящую из предпосылок, в корне отличающихся от тех, на которых строятся общепринятые теории. А для этого мы должны сделать их краткий обзор, особо останавливаясь на том, что именно в каждой из них неприемлемо для включения в Теорию Многополярного Мира, а что и с какими поправками, напротив, может быть заимствовано.
Реализм и его пределы
Одной из двух главных парадигм, доминирующих в МО, является реализм73. Реализм имеет несколько разновидностей: начиная с классического реализма Г. Моргентау, Э. Карра и Р. Арона через зрелый реализм Г. Киссинджера к неореализму К. Уолтца, С. Уолта или Р. Джилпина74.
Основные постулаты реализма таковы:
• главным актором международных отношений являются национальные государства;
• суверенитет национальных государств предполагает отсутствие какой бы то ни было нормативной инстанции, превышающей границы государства;
• в силу этого между отдельными странами в структуре международных отношений существует анархия (хаос);
• поведение государства на международной арене подчиняется логике максимального обеспечения национальных интересов (подлежащих рациональному исчислению в каждой конкретной ситуации);
• руководство суверенного государства является единственной инстанцией, компетентной для ведения внешней политики, ее осмысления и ее осуществления (простые граждане, λ-индивидуумы, по определению не обладают компетенцией для суждения о сфере международных отношений и не способны влиять на протекающие в ней процессы);
• безопасность государства перед лицом потенциальной внешней угрозы или конкуренции является главной задачей политического руководства страны в международных отношениях;
• все государства находятся друг с другом в состоянии потенциальной войны за эгоистические интересы (эта война из потенциальной становится реальной лишь в определенных ситуациях критически возросшего конфликта интересов);
• природа государств и природа человеческого общества остается неизменной независимо ни от каких исторических перемен и не склонна изменяться в будущем;
• фактическая сторона процессов в международных отношениях важнее нормативной стороны;
• последним уровнем объяснения структур международных отношений и событий, совершающихся в этих структурах, является выявление объективных фактов и закономерностей, имеющих материально-рациональную основу75.
Реализм в МО отличается тем, что воспринимает Вестфальскую систему как универсальный закон, существовавший и на ранних исторических этапах, но осознанный и принятый большинством развитых европейских держав только начиная с XVII века. В основе реалистского подхода лежит абсолютизация принципа суверенитета национального государства и приоритетное значение национальных интересов. При этом реалисты со скепсисом воспринимают любые попытки создать международные правовые и иные институты, претендующие на регулирование процессов в международных отношениях на основании нормативов и ценностей, имеющих интернациональный (сверхнациональный) характер. Любое намерение ограничить суверенитет национальных государств рассматривается реалистами как «идеализм» (Э. Карр) и «романтизм» (К. Шмитт).
Реалисты убеждены, что любое объединение или, напротив, распад традиционных государств приводит только к появлению новых национальных государств, обреченных на то, чтобы на большем или меньшем уровне воспроизводить одну и ту же постоянную схему, подчиненную неизменным принципам суверенитета, национальных интересов, а государство при любых условиях остается единственным полноценным актором международных отношений.
Один из основателей классического реализма Ганс Моргентау выделял 5 основных принципов и постулатов этой школы.
1. Обществом управляют объективные законы, а не пожелания.
2. Главное в международных отношениях — интерес, определяемый в терминах силы, могущества (power).
3. Интересы государств меняются.
4. Необходим отказ от морали в политике.
5. Главный вопрос международных отношений: как данная политика влияет на интересы и могущество нации?76
Выявление этих 5 областей и анализ того, каким образом на эти вопросы даны ответы и как эффективно это воплощено в жизнь, и составляет содержание дисциплины МО, как ее понимают реалисты.
Классический реализм исчерпывается набором этих отправных точек, которые он защищает и обосновывает перед лицом своих главных идейных противников (либералов в МО).
Неореализм качественно усложняет эту схему, привнося в нее представление о «структуре»77 международных отношений (К. Уолтц). Вместо хаоса и анархии (как в классическом реализме) область международных отношений становится полем постоянно меняющегося баланса сил (the balance of powers78), чей совокупный, но разнонаправленный потенциал удерживает всю мировую систему в одном и том же положении или, в отдельных случаях, провоцирует ее изменения. Таким образом, суверенитет и его объем, а следовательно, способность реализовать в той или иной степени национальные интересы зависит не только от самого государства и от его непосредственных противников и конкурентов в каждом отдельном случае, но от всей структуры глобального баланса сил. И эта структура, по мнению неореалистов, активно влияет на содержание и объем национального суверенитета, и даже на формулировку национальных интересов. Классические реалисты начинают свой анализ с государства-индивидуума. Неореалисты — с глобальной структуры, состоящей из государств-индивидуумов и влияющей на их профиль. При этом, как и классические реалисты, неореалисты исходят из того, что главным принципом политики страны в системе международных отношений является принцип «опоры на собственные силы» (self-help).
Неореалисты в 60–70-е годы теоретически обосновали двухполярный мир как образцовое издание структуры международных отношений, основанной на равновесии двух гегемоний (американской и советской)79. Именно сама эта структура, а не интересы отдельных национальных государств, в таком случае, предопределили содержание всей внешней политики стран мира. Сам подсчет национальных интересов (и соответственно, шаги по их реализации) начинался с анализа двухполярности, локализации каждой конкретной страны на карте этого двухполярного пространства с соответствующим геополитическим, экономическим, идеологическим и политическим знаком.
Когда в 1991 году двухполярный мир рухнул (чего неореалисты не ожидали и не прогнозировали, будучи убежденными в устойчивости двухполярной структуры), ряд представителей этой школы (в частности, Р. Джилпин80, С. Уолт81 и М. Руперт82) обосновали новую модель глобальной структуры, соответствующей однополярному миру. Вместо двух гегемоний пришел черед одной-единственной американской гегемонии, отныне предопределяющей структуру международных отношений в глобальном масштабе. Но и в этом случае неореалисты убеждены — в центре всей системы стоят национальные интересы. В условиях однополярного мира это национальные интересы одной страны — США, которая находится в центре глобальной гегемонии и является ее источником. Остальные страны вписываются в эту асимметричную картину, соотнося свои национальные интересы в региональном масштабе с ее глобальной структурой.
В политике к реализму в МО тяготеют, как правило, представители правоконсервативных партий (республиканцы в США, тори в Великобритании и т. д.).
Надо заметить, что реализм является одной из двух самых популярных в США парадигм в оценке и расшифровке событий и процессов, проходящих в международной политике.
Реалистская парадигма не делает выбора между Вестфальским миром на основе суверенитета многих национальных государств, двухполярностью или однополярностью. Разные приверженцы реалистского подхода могут придерживаться в этом вопросе различных мнений. Но всех их объединяет совокупность ранее приведенных аксиоматических истин и вера в то, что при любых соотношениях потенциала национальных государств друг с другом именно национальные государства (одно, два или много) выступают как главные и высшие акторы в области международных отношений, а соответственно, суверенитет, национальные интересы, безопасность и оборона являются главными критериями при анализе любых проблем, связанных с МО.
Реалисты никогда не выходят в своих теориях за пределы национального государства или нескольких национальных государств, так как это противоречило бы их базовой установке. Поэтому реалисты всегда скептически относятся ко всем международным инстанциям и процессам, претендующим на ограничение национального суверенитета или организации наднациональных инстанций и институтов. Никакой конкретной политической реальности в международной сфере за наднациональными (равно как и внутринациональными) структурами реалисты не признают. Внешняя политика есть целиком и полностью область компетенции легального политического руководства национальных государств. Никакого значения международные инстанции или позиции отдельных сегментов внутри национального государства не имеют и могут быть дисконтированы (вложены как составляющие в простой и конкретный факт принятия политических решений властными инстанциями, уполномоченными легально заниматься внешней политикой — как правило, это президент, премьер-министр, правительство, парламент и т. д.).
Соответственно, реалисты скептически относятся к глобализации, интернационализации и экономической интеграции и постоянно полемизируют с теми, кто, напротив, приоритетно обращает внимание именно на эти вопросы.
Либерализм в МО
Главными оппонентами реалистов в МО были и остаются либералы. При этом либеральная парадигма разделяет с парадигмой реалистов ряд базовых установок. Так же как и реалисты, либералы рассматривают преимущественно современные западные государства, принимая их за универсальный образец, с которым оперирует их теоретическая мысль. Вместе с тем либералы отличаются от реалистов по целому ряду принципиальных позиций.
В первую очередь, в отличие от реалистов, либералы убеждены, что природа человека, а соответственно, человеческого общества и его политического выражения в форме государства, подвержена качественному изменению (предполагается, что в лучшую сторону). Из этого вытекает, что политические формы общества могут эволюционировать и в какой-то момент выйти за границы государства, национального эгоизма и индивидуализма. А это, в свою очередь, означает, что можно допустить при определенных обстоятельствах кооперацию, сотрудничество и интеграцию между разными государствами на основе «моральных» идеалов и общих ценностей.
В своих философских основаниях либералы вдохновляются идеями Дж. Локка о нейтральности человеческой природы, поддающейся улучшению через воспитание, тогда как реалисты исходят из концепций Т. Гоббса о том, что по своей природе человек эгоистичен, агрессивен и зол (откуда его известная максима «homo homini lupus»).
В отличие от реалистов, которые рассматривали государства как главных акторов процессов, протекающих в сфере международных отношений, независимо от того или иного политического режима, устройства и идеологических особенностей, либералы, напротив, ставили в центре внимания вопрос: о каком политическом режиме в том или ином государстве идет речь, и, исходя из того, является этот режим либеральным и демократическим или нет, развертывали свои концепции МО. Решающим был фактор — является ли то или иное государство демократическим (это включает в себя парламентаризм, рынок, свободу прессы, разделение властей, выборы и т. д.) или нет. Для сторонников либеральной парадигмы отношения демократических стран друг с другом предполагают совершенно иную структуру взаимодействий, нежели недемократических между собой или демократической страны с недемократической. Либералы уверены, что развитая демократия во внутренней политике радикально влияет и на внешнюю политику государства.
Вся теория либералов в МО строится вокруг важнейшего утверждения: «демократии друг с другом не воюют». Это значит, что демократические режимы относятся друг к другу так же, как их граждане внутри самой страны: вместо агрессии, принуждения, насилия, иерархии и т. д. отношения основываются на мирной конкуренции, признании приоритета права, рационализации взаимодействий и процедур. Демократия может быть повторена и на уровне МО, утверждают либералы, а следовательно, вся область МО есть не просто борьба всех против всех и следование слепому эгоизму, но т. н. «анархия Локка» (или «анархия Канта» — по выражению А. Вендта), то есть мирное и открытое партнерство между собой различных стран — даже в том случае, если их национальные интересы входят в противоречие (в отличие от «анархии Гоббса», которая предполагает, что «государство государству — волк» — в незыблемости чего убеждены реалисты). На этой демократической платформе можно создать и транснациональные структуры83, которые смогут преобразовать хаос в систему.
Ранние либералы (какими являлись английский политик Р. Кобден84, президент США В. Вильсон или пацифист Н. Энжелл85) в основных своих постулатах противостоят реалистам в том, что для них политический режим (конкретно: демократия или недемократия) имеет решающее значение при анализе международных отношений. Если страны являются демократическими, то совокупность этих стран неуклонно эволюционирует, движется в сторону создания наднациональной системы и появления особых надгосударственных институтов. По мере демократизации других стран они также будут включаться в эти институты. Поэтому принцип национального эгоизма и «опоры на собственные силы» (self-help) способен быть преодоленным в ходе демократизации, что может стать основой гражданского мира и интеграции различных обществ, пока еще разделенных национальными границами, в единое демократическое гражданское общество.
Либералы в МО оспаривают основные тезисы реалистов. Для либералов:
• национальные государства являются важным, но не единственным и в определенных ситуациях не главным актором международных отношений;
• может существовать определенная наднациональная инстанция, чьи полномочия будут стоять над суверенитетом национальных государств;
• анархия в международных отношениях может быть если не ликвидирована, то гармонизирована, умиротворена и смодерирована;
• поведение государств на международной арене подчиняется не только логике максимального обеспечения национальных интересов, но и универсальным ценностям, признаваемым всеми сторонами (если страны — демократии);
• руководство государства является не единственной инстанцией, компетентной для ведения внешней политики, ее осмысления и ее осуществления (простые граждане в развитых демократических обществах могут быть не λ-индивидуумами, но «искусными индивидуумами», по выражению Дж. Розенау86, и в таком случае могут адекватно понимать протекающие в зоне международных отношений процессы и даже частично влиять на них);
• безопасность государства перед лицом потенциальной внешней угрозы является задачей всего общества, и самым прямым путем к достижению ее является демократизация всех стран мира (так как «демократии друг с другом не воюют» и ищут способа мирно решать трения и противоречия на основе компромисса);
• демократические государства находятся друг с другом в состоянии относительно устойчивого и гарантированного мира, и угроза войны исходит только от недемократических государств и иных акторов мировой политики (например, международного терроризма);
• природа государств и природа человеческого общества постоянно меняется, улучшается и совершенствуется, количество свобод возрастает, процессы демократизации крепнут, уровень толерантности и гражданской ответственности растет (это дает надежды на эволюцию всей мировой политической системы и постепенный отказ от жестко иерархических структур и милитаризации области международных отношений);
• фактическая сторона процессов не должна затмевать в МО нормативной стороны (сила идеала, норматива и ценности подчас не менее существенна, чем сила материальных технологий и ресурсов);
• последним уровнем объяснения структур международных отношений и событий, совершающихся в этих структурах, является выявление наряду с объективными фактами и закономерностями, имеющими материально-рациональную основу, нормативно-идеалистических мотиваций и ценностных факторов.
Как мы видим, сторонники либеральной парадигмы в МО во всем противоположны представителям реализма. Спор между ними и составляет основное содержание развития МО как научной дисциплины.
Развитием классической либеральной парадигмы является неолиберализм (иногда его определяют как самостоятельную парадигму в МО — «транснационализм»). Неолибералы (М. Дойл87, Дж. Розенау88, Дж. Най89, Р. Киохэйн90 и т. д.) основное внимание уделяют процессам глобализации, становлению единого экономического, информационного, культурного и социального пространства, а также распространению западных демократических ценностей во всех странах мира и углубленному внедрению их в социальные структуры и общественную жизнь. В явлении глобализации неолибералы видят наглядное подтверждение правоты своей парадигмы, утверждающей необходимость создания наднациональных структур — вплоть до мирового правительства. Неолибералы подчеркивают, что наряду с государствами в современном мире все большим значением начинают обладать НПО, сетевые и общественные структуры (движение за права человека, «врачи без границ», международные наблюдатели на выборах, Green Peace и т. д.), которые оказывают растущее влияние на процессы внешней политики государств.
Классическую неолиберальную теорию (теория взаимозависимости) разработали американские политологи Дж. Най и Р. Киохэйн91. Согласно этой теории, эпоха национальных государств как главных акторов международных отношений ушла в прошлое, и сегодня суверенные государства являются лишь одной из активных единиц наряду с отраслевыми (внутригосударственными) структурами и различными социальными группами, получающими все более широкий доступ в сферу международных отношений и наращивающими свою активность на транснациональном уровне. Именно Дж. Най ввел в оборот термин «soft power», «мягкая сила», чтобы подчеркнуть значение фактора идей, норм и интеллектуальных методологий для успеха глобализации и демократизации в планетарном масштабе92. Реалисты чаще всего выступают как сторонники «hard power», «твердой силы». Либералы же делают акцент на более тонких, сетевых инструментах влияния.
Такие явления, как создание Евросоюза, учреждение Страсбургского суда по правам человека и Гаагского трибунала, по мнению неолибералов, представляют собой прообраз будущего мироустройства, где возникнут инстанции, чья компетенция будет выше национальных государств. Функции самих государств постепенно станут сокращаться, пока они, в конце концов, вообще не будут упразднены.
Либеральная парадигма в МО является чрезвычайно распространенной и наряду с реализмом составляет одну из двух главных моделей интерпретации, анализа и прогнозирования процессов, протекающих в области международных отношений. В политической сфере к либеральной парадигме традиционно тяготеют представители левоцентристских и демократических партий, тогда как реалистами чаще всего являются консерваторы, изоляционисты и патриотические силы. В американской политике либеральная парадигма характерна для большинства представителей Демократической партии, склонных к таким моделям внешней политики, как бесполярность и многосторонний подход (мультилатерализм).
Начиная с 90-х годов ХХ века, либеральный и неолиберальный подход становится все более популярным и в европейских странах, чему способствует интенсивное становление Евросоюза, представляющего собой наглядный образец того, как либеральные концепции транснационализма могут быть воплощены в жизнь. Хотя традиционно силен в европейских странах и реалистский подход («суверенизм»), представители которого относятся к евроинтеграции с определенной долей скепсиса.
Если мы ограничим наше рассмотрение только сферой Realpolitik, конкретной политики, мы заметим, что подавляющее большинство дискуссий на тему МО, развертывающихся среди высокопоставленных политиков на престижных международных форумах и в широких средствах массовой информации, исчерпываются почти ритуальными столкновениями реалистов и либералов. Представители иных парадигм на этом уровне практически отсутствуют либо получают право голоса крайне редко. Сходным образом дело обстояло до 70-х годов ХХ века и в научной среде западного мира, где дебаты между реалистами и либералами составляли основное содержание теоретических докладов и дискуссий. Однако с конца 60 — начала 70-х годов ХХ века в теоретической области МО все большую популярность завоевывали иные, альтернативные подходы. Чаще всего оставаясь в пределах научных дискуссий и не выходя на широкую публику, эти альтернативные парадигмы, тем не менее, все больше влияли на теории МО, и в современных учебниках по этой дисциплине им с каждым годом отводится все больше места. Параллельно этому и в научных дискуссиях они становятся все более заметными. Таким образом, для того, чтобы основательно подойти к построению Теории Многополярного Мира, необходимо рассмотреть и эти альтернативные парадигмы.
Английская школа в МО
Особое положение среди теорий МО занимает Английская школа. Чаще всего ее не выделяют в отдельную парадигму, так как, обладая рядом общих черт с реализмом и либерализмом, она представляет собой оригинальное сочетание элементов, свойственных обоим этим подходам. Тем не менее ее нельзя считать и синтезом обеих школ в МО, так как по ряду вопросов ее представители придерживаются довольно оригинальных позиций, не сводимых ни к либерализму, ни к реализму.
Основанная австралийцем Хэдли Буллом93 эта школа отличается повышенным вниманием к социологическому анализу всей сферы МО. Булл и его коллеги и последователи (М. Уайт94, Дж. Винсент95 и т. д.) вводят понятие «мировое общество» или «мировая система», чтобы подчеркнуть, что отдельные государства (признаваемые представителями Английской школы в качестве главных приоритетных акторов в области международных отношений), взятые все вместе, представляют собой не просто механический агломерат эгоистически мотивированных индивидуумов, действующих исключительно в частных интересах (как настаивают реалисты), но «общество», социальную систему, заведомо предопределяющую социологическое и, отчасти, политическое содержание поступков акторов и международных событий: подобно тому, как общество распределяет социальные статусы и роли среди своих членов, наделяя каждый элемент их социальным смыслом. Поэтому, по мнению представителей Английской школы, для того, чтобы национальное государство было суверенным, в качестве необходимого условия требуется его признание таковым от лица других суверенных государств и одновременно взаимное признание ими друг друга. Поэтому суверенитет есть не только свойство государства, автономно присущее ему, но одновременно и продукт социального контракта на международном уровне.
А это значит, что хаос и анархия в международной сфере являются относительными и представляют собой особый тип системы, поддающейся рациональному изучению и намеренному изменению.
Этот момент релятивизации хаоса в международной среде отчасти сближает представителей Английской школы с классическими либералами. Более того, сходство есть и с некоторыми неолиберальными теориями, настаивающими на расширении номенклатуры акторов в МО. Однако вместе с тем теоретики Английской школы согласны с реалистами в оценке значения фактора гегемонии в общей модели международных отношений и строят свой анализ на оценке реального силового потенциала великих держав как ключевого и предопределяющего параметра всей системы международных отношений, что, в свою очередь, сближает их именно с реалистами.
Эта неопределенность в классификации не исчезла со временем, и до настоящего момента тот или иной специалист в МО предлагает свое толкование роли и места Английской школы среди основных парадигм в МО, то настаивая, что ее сторонники являются «идеалистами эпохи холодной войны» (Дж. Миэрсхеймер96), то возвращаясь к более привычному причислению ее к одной из разновидностей реализма.
Акцент на социологической составляющей анализа МО характерен для теорий Р. Арона, которого, тем не менее, однозначно и безоговорочно относят к реалистам.
Английская школа оказала существенное влияние и на некоторые постпозитивистские теории МО, которые мы кратко рассмотрим далее. В частности, в ее лоне сформировалось направление исторической социологии и нормативизма.
Неомарксизм (третья парадигма)
Третьей по популярности парадигмой МО (после реализма и либерализма) является неомарксизм. Эта модель анализа МО основана на антикапиталистическом и антибуржуазном подходе, берущем свое начало в марксизме, и одно это обстоятельство объясняет тот факт, почему она исключена из официального политического дискурса, преобладающего в капиталистических странах. Здесь существует явный когнитивный диссонанс между аксиоматикой либерал-капитализма (национального у реалистов или транснационального у либералов) и марксизма в самих базовых философских подходах к оценке современного общества и основных политических, экономических и социальных процессов, в нем разворачивающихся. В то же время неомарксизм в МО обладает очень высокой степенью проработанности своих концепций и теорий, он основан на научно-рациональном дискурсе и поэтому наделен высокой степенью научной релевантности безотносительно к тому, рассматриваются ли его аналитические методологии самими марксистами или сторонниками буржуазной идеологии. Неомарксизм в МО может теоретически быть задействован в идеологически нейтральном контексте, в том числе и для осмысления структуры МО с позиций либерального правящего класса.
На сегодняшний день классическим образцом неомарксистской модели МО можно считать теорию мир-системы И. Валлерстайна97.
С точки зрения Валлерстайна, капиталистическая система изначально складывалась как явление глобальное. Деление европейских стран на национальные государства было лишь переходной стадией. На всех уровнях и на всех этапах буржуазный класс тяготел к тому, чтобы интегрироваться в единое целое по ту сторону национальных границ, стягиваясь в ядро интернациональной буржуазии. К этому его подталкивала сама логика капитала, принцип свободной торговли и поиск все новых и новых рынков. Капитализм транснационален изначально и сущностно. Поэтому в нашем мире глобализация и ослабление границ между государствами не является чем-то уникальным, но лишь окончательно оформляет на планетарном уровне ту пространственную структуру, которая изначально присуща капиталистической системе98.
Буржуазный класс есть глобальный класс, и в наше время этот класс получает пространственно-географическую локализацию в лице «богатого Севера» (иначе — «глобального Запада» или «ядра» мир-системы)99. Центром мировой буржуазии становится Запад в широком смысле, там концентрируются капиталы, высокие технологии; там сосредоточены экономические бенефициары основных макроэкономических процессов, развертывающихся в мировой экономике; там же, логически, концентрируется и глобальная политическая власть. Тот факт, что национальные государства и соответствующие администрации продолжают существовать, никак не влияет на сущность функционирования мир-системы: основные решения в международных отношениях принимают не правительства и государства, а мировая космополитическая капиталистическая элита, состоящая из представителей самых разных народов — от классических американских финансистов и европейских промышленников до нефтяных шейхов, новых русских олигархов или нуворишей Третьего мира. Это и есть «ядро», остов мирового правительства.
На противоположном конце мир-системы, в зоне мировой периферии, в странах Третьего мира, сосредоточен глобальный пролетариат. Это обездоленные слои населения бедных стран, живущие в крайней нищете и бесправии. Мировая периферия представляет собой пространственную локализацию мирового пролетариата, «обездоленных мира сего». На них влияние национальных и региональных политических структур пока еще довольно сильно, и в отличие от мировой буржуазии, включая ее региональных представителей, они еще очень слабо осознают свою классовую природу и, соответственно, необходимость классовой солидарности. Но по мере оформления глобализации в правовую модель мироустройства все бόльшие слои мирового пролетариата оказываются вовлеченными в миграционные процессы. Под давлением материальных факторов они вынуждены перемещаться в новые пространства и смешиваться с пролетарскими слоями других этнических и национальных групп. В ходе этой миграционной интернационализации мировой пролетариат Третьего мира начинает осознавать свою историческую роль революционного класса будущего100. В более развитых странах в состав пролетариата интегрируются представители низших слоев более развитых обществ, привнося с собой в пролетарскую среду более высокий уровень исторической и социальной саморефлексии. Так, в глобальном масштабе в мир-системе постепенно складываются предпосылки для мировой революции, которая станет возможной на следующих, завершающих стадиях глобализации, когда мировая капиталистическая система, дойдя до естественных природных и географических границ своей экспансии, войдет в череду потрясающих ее основание системных экономических, финансовых и политических кризисов и рухнет101.
Еще одной важной составляющей глобальной структуры в неомарксистской теории являются страны полупериферии. К ним относятся некоторые крупные державы, обладающие неизмеримо бόльшим потенциалом, чем общества Третьего мира, но все же по основным критериям уступающие в развитии региону «богатого Севера». Типичными образцами таких стран полупериферии являются страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). В этих странах сосредоточен огромный экономический, ресурсный, военно-технологический и демографический потенциал. Но при этом страны полупериферии зависят от Запада в отношении технологий, патентов, самой логистики организации общества и экономики на самых разных уровнях — от политического и социального до правового и культурного. Страны полупериферии образуют своего рода «второй мир». В нем буржуазия еще не столь полно интегрировалась в мировой планетарный класс, а пролетарские массы не находятся в таком нищенском положении, как в странах Третьего мира. С точки зрения Валлерстайна, полупериферия — это не альтернатива глобальному капитализму, но временное явление. Под воздействием процессов глобализации странам полупериферии придется, так или иначе, пойти вслед за странами «богатого Севера». А это значит, что буржуазная элита рано или поздно интегрируется в глобальный класс и мировое правительство, а процессы миграции приведут к смешению местного пролетариата с потоком из стран Третьего мира, что приведет к интернационализации пролетариата. В результате страны полупериферии развалятся, и их сегменты будут полностью интегрированы в мир-систему на классовой основе: буржуазия вольется в «глобальный Запад», а низшие классы рухнут в столь же космополитическую массу мигрантов, стремительно утрачивая национальные и культурные отличительные черты. После распада полупериферии мир-система станет совершенной и законченной. Но в тот момент, когда произойдет ее окончательный кризис и она рухнет, согласно неомарксистам, в ходе глобальной пролетарской революции к власти в мировом масштабе придет интернациональный пролетариат102.
Такой анализ мир-системы настолько точно описывает и интерпретирует определенные процессы, протекающие в современном мире, что даже в чисто прагматических целях на него все чаще и чаще опираются специалисты в МО или просто привлекают его для анализа тех или иных отдельных явлений. В сфере научных теоретических исследований этот подход, начиная с 60-х гг., прочно завоевал себе достойное место наряду с реализмом и либерализмом и сегодня в учебниках по этой дисциплине описывается как третья парадигма в МО, необходимая для изучения всем специалистам в данной сфере. Хотя, как мы уже говорили, из политических дебатов или деклараций политиков и экспертов, обращенных к широкой публике, апелляции к этому типу анализа почти полностью исключены.
Следует добавить, что с позиции Валлерстайна глобализация есть зло, но необходимое зло. Точно так же для самого Маркса капитализм был злом, с которым надо бороться, но при этом, в сравнении с сословным феодальным обществом, он рассматривался как прогрессивное и передовое явление. Аналогично дело обстоит и в неомарксизме: его сторонники называют себя «антиглобалистами» постольку, поскольку они прекрасно осознают буржуазную сущность этого процесса и занимают свою идеологическую позицию по ту сторону от глобального буржуазного класса, являющегося движущей силой глобализации. Но при этом они считают глобализацию неизбежной и исторически, технологически и материалистически предопределенной, и даже «передовой» и «прогрессивной» — в сравнении с национальными государствами или странами «полупериферии». Мировая пролетарская революция возможна только после победы глобализма, а никак не до нее, убеждены современные неомарксисты. И чтобы подчеркнуть это, они предпочитают называть себя «альтерглобалистами», т. е. «альтернативными глобалистами». Они выступают не столько против глобализации, сколько против мировой буржуазной элиты, а сопровождающая глобализацию интернационализация мирового пролетариата как неизбежный коррелят глобализации как таковой, напротив, является для них положительным процессом. С этим связано и нежелание альтерглобалистов принимать в свои ряды те силы, которые выступают столь же радикально против глобализации и глобализма, но с позиции сохранения национального суверенитета или конфессиональной идентичности. Национальные государства на пространстве всех трех зон мир-системы должны быть упразднены, считают альтерглобалисты. И в этом они повторяют критику Марксом антибуржуазных движений феодальной или клерикальной ориентации: выяснению того, что отличает коммунистов от некоммунистических, но тоже антибуржуазных течений, посвящена бόльшая часть Манифеста Коммунистической партии103. Точно так же современные альтерглобалисты, будучи врагами мировой буржуазии, частично солидарны с ней исторически — перед лицом тех «антиглобалистских» сил, которые считаются неомарксистами «реакционными». Без глобальной победы и завершившейся интернационализации планетарного мирового класса и установления мирового правительства невозможна пролетарская революция, убеждены они. Этим определяется подход сторонников этой парадигмы МО к буржуазной глобализации как к исторически неизбежному и даже необходимому процессу. Пока не произойдет полной интернационализации буржуазного класса в глобальном масштабе, мировой пролетариат не станет в свою очередь интернациональной и глобальной силой, не сможет осознать по-настоящему своего исторического всемирного предназначения. А это невозможно без интенсивной глобальной миграции и расового и культурного смешения обездоленных масс всего мира — с параллельной утратой этнической, культурной, конфессиональной и национальной идентичности всем человечеством. Глобальная космополитическая буржуазия должна столкнуться с глобальным космополитическим пролетариатом — только так можно осуществить настоящую пролетарскую революцию, считают неомарксисты.
В этом легко различить их преемственность троцкистской версии марксизма, к которой неомарксисты подчас открыто апеллируют. Троцкий критиковал сталинский режим как раз за теорию возможности построения социализма в одной стране, выдвинутую Сталиным в 1924 году104. Как и Ленин, Троцкий считал, что победа пролетарской революции в одной стране возможна, но затем должна начаться мировая революция. Если же она не начинается, то социализм вырождается в бюрократию и только препятствует настоящей мировой революции, а не способствует ей. В этом и заключался смысл троцкистской критики сталинской системы. На основании этой же логики строят свои теории и немарксисты в МО, настаивающие на том, что пролетарская революция может быть только радикально интернациональной и глобальной, то есть мировой. Любая попытка построить социализм в одной стране (или в нескольких) поместит классовые противоречия в национальный контекст и замедлит, а не ускорит искомый момент истории. Отсюда вытекает и отношение неомарксистов к «полупериферии». То, что в этих странах интернационализация на классовой основе замедляется и отчасти искусственно блокируется национальной политикой властей, лишь затормаживает эксплицитное оформление имплицитной глобальности мир-системы, а следовательно, это ведет лишь к замедлению исторического процесса и бессодержательной самой по себе задержке.
Довольно подробно это обстоятельство рассматривается в книгах теоретических вождей альтерглобализма А. Негри и М. Хардта105. В своей терминологии они называют мир-систему «Империей», в центре которой стоят США и глобальный буржуазный класс. Им противостоят «множества»106 — разрозненные и распыленные индивидуумы, лишенные социального статуса в мировой элите и каких-либо социальных свойств. Эти множества мыслятся как революционный класс будущего, способный осуществить глобальный саботаж «Империи». Но это может произойти только после того, как «Империя» победит. Таким образом, логика неомарксистов и альтерглобалистов в МО такова: пусть как можно скорее победит «Империя» и возникнет мир-система во главе с мировым правительством; тогда и наступит момент восстания множеств.
Теперь посмотрим, как неомарксисты в МО строят свою полемику с представителями других классических парадигм.
В противовес реалистской парадигме они утверждают следующее:
• главными акторами международных отношений выступают не национальные государства, но глобальные классы: структура международных отношений организована не правительствами, но логикой капитала, приобретающей в период глобализма пространственный смысл;
• следовательно, понятие суверенитета весьма условно и анархия международных отношений управляется законами капитала: вместо хаоса надо говорить о логике капитала;
• национальные интересы являются лишь частичной зоной в общем процессе исчисления выгод, которые может приобрести капитал и, соответственно, они зависят от его структуры: национальные интересы есть в конечном счете интересы буржуазного класса данного общества;
• не фактические и юридические правители, но финансовые и промышленные круги, то есть буржуазия как класс влияет на принятие основных решений во внешней политике любого государства, а политические правители лишь оформляют и легализуют эту волю: внешней политикой заведует буржуазный класс;
• призывы к безопасности и мобилизация «национальных чувств» являются пропагандистской информационной стратегией буржуазии, призванной отвлечь пролетариат от классовой борьбы, предотвратить рост интернационального самосознания и классовой солидарности с трудящимися других стран;
• помимо национальных противоречий, существует сговор глобальной буржуазии через голову национальных государств, он-то и предопределяет логику развития процессов в международных отношениях;
• главной войной, которая ведется нескончаемо (тайно или явно), является классовая борьба: она имеет интернациональный характер, а межнациональные конфликты и противоречия лишь отвлекают пролетариат от революции и уводят его в сторону от исполнения его исторической миссии;
• природа государств и природа человеческого общества постоянно эволюционирует, что проявляется в обострении противоречий между уровнем развития производительных сил и производственных отношений, и составляет сущность исторического прогресса, в ходе которого классовые противоречия вначале обостряются, достигают глобального масштаба, приводят к кризису, а затем выливаются в мировую пролетарскую революцию, после которой государства отмирают, а человеческое общество движется к коммунизму;
• фактическая сторона процессов в международных отношениях важнее нормативной стороны, если интерпретировать эту фактическую сторону методами классового марксистского анализа: главными фактами будут факты конкретики классовой борьбы;
• последним уровнем объяснения структур международных отношений и событий, совершающихся в этих структурах, является выявление объективных исторических фактов и закономерностей, имеющих классовую идеологическую основу.
Против либералов в МО неомарксисты выдвигают следующие тезисы, частично дополняя, а частично их опровергая:
• международные отношения имеют классовую природу, а демократические режимы полнее соответствуют структуре буржуазно-капиталистической системы и прозрачнее обнажают классовые противоречия;
• логика капитализма стоит над интересами национальных государств, следовательно, создание мирового правительства на демократической (читай: буржуазной) основе, действительно, возможно и даже необходимо и исторически предопределено (как считают и либералы);
• анархия в международных отношениях есть видимость: подчиняясь логике мирового капитала и глобального буржуазного класса, она в определенный момент может быть преодолена и заменена на формальное институционализирование наднациональной инстанции (и в этом неомарксисты согласны с либералами);
• поведение государств на международной арене подчиняется не только логике максимального обеспечения национальных интересов, но и исторической необходимости развития капиталистической мир-системы, что яснее всего проявляется в буржуазных демократиях и не столь ясно в других политических режимах: национальные государства лишь вуалируют эту логику (национальное государство есть, таким образом, капиталистический блеф);
• в международных отношениях развертываются процессы классовой борьбы, потому вся эта зона является зоной противостояния двух надгосударственных, транснациональных сил — мировой буржуазии и мирового пролетариата: они и являются главными акторами МО;
• безопасность государства является буржуазным мифом, прикрывающим свободу правящей буржуазии безнаказанно эксплуатировать пролетариат: главная опасность исходит от капитала, и борьба с ним, включая прямое революционное действие, является исторической миссией обездоленных;
• «демократии друг с другом не воюют» только потому, что господствующая в них буржуазия прекрасно осознает, что наиболее эффективно эксплуатировать пролетариат она может лишь в классовой координации на интернациональном уровне;
• демократический мир скрывает под собой классовую войну, постоянно экспортируемую демократиями в Третий мир, где демократизация политики и либерализация экономики становятся средствами для установления системы буржуазной диктатуры в интересах мирового капитала: война против недемократий есть действие, направляемое логикой капитала, стремящегося к достижению планетарных границ, а международный терроризм — это искусственный жупел для запугивания масс и оправдания капиталистических интервенций и прямых агрессий;
• история человека и общества развивается диалектически и прогрессивно, но не линейно, а циклически: каждый следующий виток развития переводит общество на новый уровень, но при этом классовые противоречия не смягчаются, а обостряются: история имеет конфликтный характер и организуется через череду войн и революций, пока классовая природа этих процессов не будет осознана в глобальном масштабе (только победы социалистической революции и построение мирового коммунизма избавят человечество от государств, войн, страданий, эксплуатации и насилия);
• фактическая сторона процессов в международных отношениях и нормативная сторона составляют два аспекта классовых отношений — выраженных материально и оформленных идеологически (демократия наиболее отчетливо формализует реальную картину материальных отношений в обществе через буржуазную идеологию, которую следует разоблачать и критиковать с пролетарской точки зрения, на основе альтернативной марксистской идеологии, трактующей те же самые материальные и экономические закономерности в совершенно ином политическом ключе (то есть существует не одна дисциплина МО, а две — МО глазами буржуазии, что воплощено в реализме и либерализме, и МО глазами пролетариата, что воплощено в неомарксистских теориях МО);
• последним уровнем объяснения структур международных отношений и событий, совершающихся в этих структурах, является выявление классового смысла и логики развития, и кризисов мирового глобального капитала.
Если сравнить между собой неомарксистские возражения реалистам и либералам, можно заметить следующую закономерность: у неомарксистов больше общего с либералами, чем с реалистами, и именно в либералах, и особенно в неолибералах, неомарксисты видят более правдивое отражение тех глобалистских тенденций, которые ближе всего подходят к описанию мир-системы, хотя и трактуют эту мир-систему со своих классовых позиций: от лица мирового буржуазного класса. Реалисты же, по мнению неомарксистов, отстаивают реальности «вчерашнего дня» и постоянным обращением к национальным государствам лишь затемняют классовую сущность основных процессов в международных отношениях и откладывают осознание их классовой природы.
Несмотря на то что коммунистические теории, и особенно практики, в западном мире существенно «демонизированы», представители неомарксистской парадигмы в МО в научном сообществе остаются престижными и авторитетными.
От позитивистских теорий к постпозитивистским
Видный теоретик МО А. Вендт так классифицирует три преобладающие на сегодняшний день классические теории МО на основании двух пар критериев107:
материализм vs идеализм/индивидуализм vs холизм.
Материализм предполагает, что в основе процессов, развертывающихся в сфере международных отношений, лежат строго фиксируемые и эмпирически достоверные материальные факты, складывающиеся по своей присущей им логике. Дело ученых и аналитиков — лишь корректно и точно описать, осмыслить, систематизировать и проинтерпретировать их в своих (субъективных) теориях. Политики же должны строить рациональную стратегию на основе и самих этих материальных закономерностей, непосредственно и с учетом наиболее релевантных теорий их осмысляющих.
Идеализм исходит из предпосылки, что не столько факты, сколько ценности и гносеологические концепты, то есть субъективный фактор, предопределяют сущность процессов, развертывающихся в международных отношениях, а соответственно, изменения сознания акторов или расширение их номенклатуры могут повлиять на материальную сторону развертывающихся событий и процессов. Нормы важнее, чем факты, «идеи имеют значение» — такова максима идеалистов в МО.
В другом социологическом регистре противопоставлений контрастируют друг с другом два иных подхода: индивидуалистический и холистский (см. Л. Дюмон108).
Индивидуализм предполагает, что решения принимаются акторами (какими бы они ни были) на основании своих эгоистических предпочтений, исходя исключительно из обеспечения собственных интересов.
Холизм (от греч. ὃλος — «целое») исходит из того, что целое больше части, и, соответственно, общество в своей совокупности предопределяет решение и выбор отдельных своих элементов — будь то общество в пределах одного отдельно взятого государства, совокупность государств или класс.
На основании двух пар критериев «материализм vs идеализм и «индивидуализм vs холизм» получаем 4 возможные модели.
1. Материализм + индивидуализм. По Вендту, это соответствует реалистской парадигме.
2. Идеализм + индивидуализм = либеральная парадигма.
3. Материализм + холизм = неомарксистская парадигма.
4. Идеализм + холизм =?
Вопросительный знак, поставленный в конце четвертого сочетания терминов, имеет большое теоретическое значение для всей дисциплины МО. Первые три сочетания описывают доминирующие классические парадигмы, к которым относится и марксизм, несмотря на революционный пафос и конфликтологический стиль анализа. Все эти формы познания соответствуют современной научной картине мира и основываются на общей теоретической топике, свойственной Модерну. Здесь все зиждется на представлении о том, что существуют строго разграниченные между собой субъект и объект, и оба они имеют автономное бытие109; в зависимости от типа философии можно начинать в такой паре как с субъекта (в МО — либерализм), так и с объекта (в МО — реализм и марксистский материализм). Поэтому три парадигмы в МО — реализм, либерализм и неомарксизм — принято называть «позитивистскими». Все они оперируют с эмпирически фиксируемыми «позитивными» реалиями, обращением к ним подтверждая свои теории или опровергая и критикуя теории оппонентов.
Но с 60-х гг. в гуманитарных науках в целом (философия, социология, политология и т. д.) стал нарастать интерес к Постмодерну и его особой интеллектуальной топике, которая стремится выйти за рамки научной картины мира, сложившейся в основных чертах на заре Нового времени (Декарт, Ньютон, Спиноза и т. д.). Постмодерн, предельно радикализируя интуиции И. Канта, ставит под вопрос саму пару — субъект/объект, считая бытие (онтологию) и того и другого проблематичным и недоказуемым. Структурализм и обращение к языку и тексту обосновывают это сомнение, предлагая вместо традиционной пары означающее/означаемое обращение к языку и его структурам, где на место денотата (отдельного объективно, эмпирически позитивно существующего объекта внешнего мира, на который указывает языковый знак, нотация) заступает коннотат (смысловое поле, связанное с самим языком и задающее семантическую нагрузку знака, не выходя за пределы самого языка). Это приводит к выводу: объект и субъект не существуют отдельно друг от друга; любой научный, философский, социологический концепт представляет собой комплексный гибрид (Б. Латур).
Постмодернизм, неуклонно расширяющий свои позиции в гуманитарной сфере, в определенный момент достиг и дисциплины МО. На его основании возник целый спектр новых теорий МО, которые совокупно принято называть «постпозитивистскими» и строго отличать от «позитивистских» (реализм, либерализм, неомарксизм). Этим-то постпозитивистским теориям и соответствует зарезервированное А. Вендтом сочетание: идеализм + холизм. Теперь на месте вопросительного знака можно поставить термин «постпозитивизм» — как общее название для целого спектра новых теорий в МО, так или иначе окрашенных постмодернизмом и его специфической методологией.
Идеализм здесь подчеркивает то определяющее значение, которое отводится концептам (теориям, идеям, воззрениям, текстам) по сравнению с «материей» (эмпирическим полем, считающимся вторичным и производным). Холизм же обращает наше внимание на то, что речь идет о целостной системе, предшествующей выделению отдельных атомарных акторов, а то и вовсе способной обходиться без них (например, «ризома»110 Ж. Делеза или «тело без органов» А. Арто).
На философском уровне постпозитивисты апеллируют к теориям «языковых игр» Л. Витгенштейна111, «научным парадигмам» Т. Куна112, «научному полю» П. Бурдье113, «режимам истины» М. Фуко114, «когнитивному интересу» Ю. Хабермаса115 и т. д.
Все постпозитивистские парадигмы исходят из того, что теория есть самостоятельный дискурс, конструирующий реальность, а не просто отражение на субъективном уровне объективного положения дел (в обществе, истории, политике и т. д.).
Для постпозитивистских парадигм характерно рассмотрение всей сферы МО как сконструированной и постоянно конструируемой и переконструируемой реальности, где продуктами такого конструирования становятся одновременно и внешний мир (сами международные отношения как эмпирический факт), и те, кто этим процессом руководит (конструкторы, акторы, аналитики и политики). Важно подчеркнуть, что в таком анализе мы имеем дело не просто с указанием на то, что объективные процессы в международных отношениях кем-то программируются, управляются, провоцируются. Это было бы классическим «идеализмом» в МО, который характерен и для либеральной парадигмы, остающейся вполне «позитивистской». В крайних формах это давало бы «теорию заговора», элементы которой встречаются у ряда левых социологов (например, некоторые неомарксисты или социолог Ч. Р. Миллз116). Постмодернисты идут дальше и показывают, что не только объект в МО конструируется полностью, от начала и до конца, но и субъект также является результатом этой конструирующей деятельности, хотя и располагается он на другом конце познавательного процесса. Создавая «реальность» международных отношений, теоретики МО и практики в лице правящего класса или оппозиционных радикальных интеллектуалов создают вместе с тем и самих себя — учреждая отдельные опорные и искусственные фигуры в лоне более сложного комплексного процесса многомерного и целостного социального движения. Отсюда «холизм» постпозитивистских теорий. И отсюда же вытекает главный метод, общий для всех постмодернистов: деконструкция.
Деконструкция означает выявление фаз и структур процесса, создающего «объективный мир» и того «субъекта», который этот «объективный мир» конституирует (учреждает) самим процессом познания. Задача деконструкции — выявить базовый текст, в рамках которого развертывается дискурс МО как дисциплины. Отождествление поля МО с текстом и применение к нему структуралистских технологий может служить полезной метафорой для понимания всего постпозитивистского подхода в целом.
Постпозитивистские теории в МО: основные признаки и номенклатура
Можно выделить ряд общих черт, присущих всем постпозитивистским теориям без исключения. Опишем их на 4 уровнях:
• эпистемологическом (природа знаний и науки в МО);
• методологическом (критерий истинности гипотез);
• онтологическом (статус эмпирического опыта и автономного бытия исследуемых реальностей);
• нормативном (значение регулирующих идей для воздействия на реальность).
Постпозитивизм:
• эпистемологически ставит под вопрос позитивистское отношение к знанию и познанию, критикует претензии на «объективные» и эмпирически подтвержденные формулировки суждений относительно природной и социальной реальности;
• методологически отбрасывает какой-то один научный метод в качестве наиболее «истинного» и утверждает равнозначность разных методов (П. Фейерабенд — «эпистемологический анархизм»117), выделяет в качестве приоритетных интерпретативные стратегии;
• онтологически отбрасывает рационалистические концепты природы и деятельности человека, подчеркивая социальную конструктивность идентичности акторов и роль этой сконструированной идентичности в конституции интересов и действий;
• нормативно отрицает аксиологически «нейтральную» теоретизацию вплоть до самой ее возможности, разоблачает претензии на «научность как неангажированность» и стремится к разоблачению и ниспровержению властных структур и отношений в любом дискурсе.
Сравнить между собой основные моменты позитивистского и постпозитивистского подходов удобно на примере следующей таблицы118.
|
Позитивизм |
Постпозитивизм |
|
а) вера в то, что естественные науки и гуманитарные науки могут исследовать на основании одного и того же метода, т. е. строиться на рациональном анализе позитивных эмпирических достоверных фактов (ни природа, ни структура рациональности, ни позитивность фактов под вопрос не ставятся); |
а) разум и природа имеют радикально различную природу и, более того, предопределяются социальными установками, а не существуют сами по себе; конститутивная гносеология, конструктивистское понимание мира; |
|
б) между фактами и ценностями существует онтологическая разница: факты — объективны, ценности — субъективны; |
б) факты и ценности проистекают из общих социологических установок и являются социальными конструктами; |
|
в) в сфере международных отношений существуют причинно-следственные (каузальные) закономерности, которые можно выявить с помощью научных методов; |
в) причинно-следственные отношения не являются автономными от того, какими их мыслят, а следовательно, делают люди (то, что не считается причиной в МО, то ей и не является); |
|
г) валидность (достоверную ценность) предлагаемых объяснений закономерностей можно обосновать на основе эмпирических (статистических) наблюдений |
г) эмпирические наблюдения в социальной сфере целиком зависят от процедур наблюдения и являются «валидными» только в контексте конкретного «научного поля», а в другом контексте не являются таковыми, т. е. их ценность всегда относительна |
Постпозитивистские теории в МО разными авторами систематизируются по-разному. В одних случаях подходы группируются в обобщающие парадигмы, в других — разделяются. Ниже мы предлагаем наиболее устоявшуюся модель классификации этих теорий119.
К постпозитивизму в МО относятся следующие направления:
радикальные
критическая теория МО,
постмодернизм в МО,
феминизм в МО,
нерадикальные
историческая социология,
нормативизм в МО.
Особое место занимает конструктивизм, чьи представители (А. Вендт, Дж. Розенау) настаивают на том, что их парадигма имеет ряд общих черт с позитивизмом (онтология, признание реальности фактов в области международных отношений) и с постпозитивизмом (гносеология, признание определяющей роли концептов, идей и дискурсов в конструировании «реальности» международных отношений).
Критическая теория МО
Критическая теория вытекает из неомарксизма, но отталкивается не от его материалистической версии («базис предопределяет события в надстройке»), но от идеалистической версии в духе идей А. Грамши (надстройка относительно автономна от базиса и способна активно влиять на него). Основателем этого направления в МО является Р. Кокс120.
Представители критической теории МО (Р. Кокс, ранний Р. Эшли, Э. Линклэйтер, М. Хофман и т. д.) отталкиваются от грамшистского определения «гегемонии» как «порядка, основанного на доминации, которая не воспринимается как таковая теми, кто ее на себе испытывает». Иными словами, гегемония — это структура властных отношений, обязательно предполагающая наличие гегелевской диалектической пары Господин–Раб121, но формально отрицающая такую иерархию, а коллективный Раб (подчиненный элемент) не переживает свое положение как «подчинение» и «рабство». Гегемония есть господство, выдающее себя за «отсутствие господства». Поэтому она не может иметь по определению юридического статуса. Она существует только по факту, как социологическая констатация, тогда как юридически и легально, а также психологически она отрицается и игнорируется.
Роберт Кокс122 анализирует то, как властные структуры (мировая или национальная капиталистическая элита) строят дискурс в МО с целью придать видимость «объективности» и «нейтральности» своему «научному» анализу, но на самом деле действуют так исключительно с целью закрепления своих классовых и властных интересов. В этом он следует за классическим марксизмом. Одновременно Р. Кокс указывает на то, что все доминирующие теории в МО являются не чисто теоретическими разработками, ставящими перед собой задачу «получения объективной научной истины», но «теориями, созданными ad hoc для решения конкретных проблем» (problem solving theories). Соответственно, эти теории служат одой цели: установлению и закреплению гегемонии капиталистического класса. Задача критической теории МО состоит в разоблачении тех гносеологических технологий, которые за этим стоят и в этом процессе используются. Основная мысль Кокса следующая: международные отношения таковы, какими они представляются в теориях МО, а теории МО таковы, какими их делают теоретики. Претендуя на то, что они изучают эмпирическую реальность, эти теоретики в действительности активно конструируют эту реальность вдоль оси классового господства. Отношения между государствами, главными акторами международных отношений, отдельными единицами и блоками становятся такими, какими их проектируют интеллектуалы, обслуживающие глобальную буржуазию. А следовательно, деконструкция и критическое разоблачение структур этого властного дискурса, выведение гегемонии из имплицитной области в эксплицитную подрывает ее гипнотическую силу и позволяет вскрыть механизм внушения, обмана и манипуляции, к которому прибегают пристрастные и ангажированные теоретики.
В такой теории онтологии (даже в смысле классического позитивистского марксизма, где она локализуется в сфере производительных сил и производственных отношений) почти не отводится места, и по умолчанию предполагается, что «реальность» является такой, как ее описывает доминирующий гегемонистский дискурс.
В качестве альтернативы Кокс предлагает проект «контргегемонии», основанный на разоблачении существующего порядка в международных отношениях, и призывает к восстанию против него. Это восстание в первую очередь должно быть когнитивным. Капитал есть не что иное, как дискурс. И его антитеза, пролетариат, тоже имеет одно оружие — интеллект и слово. То есть пролетариат — это тоже дискурс, только обратный.
Р. Кокс предлагает создание контргегемонистского исторического блока, основанного на тех акторах мировой политики, которые по тем или иным причинам отвергают существующую гегемонию, осознают факт ее наличия и готовы противопоставить ей альтернативные гносеологические, эпистемологические, нормативные и, наконец, онтологические проекты.
Другой представитель критической теории в МО Эндрю Линклэйтер123 предлагает подвергнуть все теории МО деконструкции и утвердить вместо разнообразных версий властного дискурса в МО альтернативную модель «общины диалога» (dialogic community).
Все моменты, на которых строится аксиоматика реалистов и либералов представители критической теории подвергают деконструкции. Процессы этой деконструкции составляют основное содержание их полемических теоретических работ. В классическом марксизме они отбрасывают фатализм, исторический материализм и уверенность в предопределенности развития мировой истории.
Постмодернизм в МО
Постмодернизм в МО (иначе называемый иногда «постструктурализм в МО»124) представлен Р. Эшли125, ориентирующимся на философию Ф. Ницше и М. Хайдеггера, а также Р. Уокером126, Дж. Дер Дерьяном127, развивающими идеи философов-постмодернистов М. Фуко, Ж. Деррида и т. д. Постмодернисты в МО методологически близки к представителям критической теории и иногда их относят к одному и тому же направлению.
Р. Эшли настаивает на том, чтобы в область МО была перенесена базовая идея постмодернистской гносеологии: субъект и объект не существуют отдельно и автономно, это неразрывно связанная между собой тотальность в историческом мире. Соответственно, в МО появляется радикально новый актор — аналогичный Dasein’у Хайдеггера или ризоме Делеза. Это не пара субъект/объект, но то, что находится между ними и предопределяет и того и другого в историко-социальном контексте. Постигая реальность, человек формирует ее и вместе с ней самого себя. Вне этого процесса нет реальности.
Деконструкция реализма приводит постмодернистов к следующему заключению: говоря о том, что «реально» в Realpolitik, теоретики МО эту реальность учреждают, заставляя считаться с ней всех остальных и реализуя тем самым классический сценарий инсталлирования властных отношений. Господин и Раб оказываются изначально включенными в структуру «реальности», которую реалисты призваны якобы «объективно изучать и описывать». Но властные отношения оказались в предмете изучения МО не сами по себе, а будучи спроецированными туда иерархической системой дискурса, где воля к власти совпадает с волей к знанию (М. Фуко).
Другой пример: λ-индивидуум, с которым оперируют реалистские концепции, не просто обнаруживается как фигура, не компетентная в МО, но конституируется как таковая, что ведет напрямую к узурпации его компетенций властными инстанциями и обслуживающими власть интеллектуалами, присваивающими самим себе то, в обладании чем отказывают всем прочим. Таким образом, сам концепт λ-индивидуума является, согласно постмодернистам, формой дискриминации и инструментом сознательного усугубления невежества, пассивности и покорности масс.
Эшли систематически деконструирует классические теории и концепты МО. Так, «международная анархия» опознается им не просто как констатация фактического положения дел в области международных отношений, но как скрытая валоризация порядка и суверенитета, то есть искусственная и искусная легитимация порядка и власти внутри государства128. Такие парные концепты, как анархия/порядок, единство/ различие, идентичность/дифференциал — носят скрыто моральный характер и отражают ценностные установки, заложенные в якобы нейтральной аналитике129.
Феминизм в МО
Еще одной разновидностью постпозитивизма в МО является феминизм (Джэйн Эльштейн130, Синтия Энлоэ131, Анна Тикнер132 и т. д.). Методологически феминизм имеет несколько разновидностей133, что предопределяет и характер феминистских подходов к области МО.
Позиционный феминизм (stand point feminism) считает, что женская ментальность и сама картина мира у женщин качественно отличны от мужской, и «женский космос» следует признать как самостоятельную духовную вселенную, имеющую все основания на то, чтобы настаивать на своих гендерных архетипах применительно к любым областям (в том числе и к МО). Так, Анна Тикнер, типичная представительница «позиционного феминизма», предлагает «феминистскую переформулировку 5 принципов реализма в МО Ганса Моргентау134, исходя из того, что все ключевые термины здесь даны в жестко мужской перспективе: объективность, закон, сила, интерес, отказ от морали, нация и т. д. — это осевые конструкции мужского языка доминации, неравенства, приватизации, захвата и порабощения. Женскими аналогами были бы: соучастие, забота, миролюбие, гибкость, смягчение, гармонизация субъективности, прощение, равноправие. Следовательно, в «женской позиции» МО превращаются в совершенно иную концептуальную реальность.
Базовая для реализма философская установка Т. Гоббса, что «человек человеку — волк», перенесенная на отношения между государствами, подвергается аналогичной феминистской деконструкции следующим образом. Гоббс использует латинскую формулу «homo hominin lupus», но homo (англ. man) — это «мужчина». «Мужчина мужчине — волк», может быть, рассуждают феминистки, но к женщинам это явно не относится. Следовательно, базовая метафора, на которой строятся основные аксиомы политической науки, теории государства, суверенитета, а затем и теория анархии в международных отношениях, пригодна только для половины человечества. И стоит ли позволять превращать всю теоретическую дисциплину в развертывание гендерной «мужской позиции», игнорируя женский взгляд? Если подставить в формулу «человек человеку волк» вместо «мужчины» (homo) «женщину», вся формула развалится и возникнет новая, на основании которой можно построить при желании совершенно иную теорию МО.
А. Тикнер развернуто критикует и неореалистов, например, М. Уолтца за само название и, соответственно, тематизацию его программной книги «Человек (мужчина/man), государство и война»135, а Синтия Энлоэ настаивает, что «меняя теорию, мы меняем не взгляд на мир, но сам мир», и стоит только построить теорию МО от лица женщины, соответствующим образом будет преобразована и сама реальность. В качестве примера она приводит успехи общественных организаций «солдатских матерей», способных оказать существенное давление на политические решения136.
К иным выводам приходят феминистки постмодернистского толка. С их точки зрения, неравенство полов заложено в самой природе (базовая дуальность человека как вида) и, следовательно, освобождение женщин возможно только через отказ от пола как такового, через переход к бесполым существам среднего рода (например, к киборгам — «Манифест киборгов» написан для этой цели феминисткой Донной Харауэй137). Применительно к области МО такой постмодернистский феминизм приводит к выводам, аналогичным неомарксистским и альтерглобалистским в духе А. Негри и М. Хардта (множества должны ускользнуть от всех детерминаций, включая гендер138). Это приводит к концепциям «сетевого общества» и трансгуманистским проектам постчеловеческой футурологии.
Марксистский феминизм дает классовый анализ неравенства полов и апеллирует в духе классического марксизма к социальному равноправию в ходе построения коммунистического общества.
Либеральный феминизм настаивает лишь на том, чтобы дать женщинам полностью равные права с мужчинами, имплицитно признавая универсальность мужской позиции. В таком случае женщина получает равное место в обществе и, соответственно, возможность активно участвовать в МО, но в качестве «мужчины» — воспроизводя собственно мужские архетипы, установки и модели поведения.
Различные типы феминизма атакуют область МО с разных сторон, разоблачая «мэйнстрим» в этой дисциплине как «мэйлстрим» (игра слов: «main stream» в английском, дословно, «основной, главный поток»; «male stream» — «мужской поток»).
Нормативизм в МО
Критическую теорию, постмодернизм и феминизм обычно причисляют к радикальному постпозитивизму. Но существуют и смягченные версии того же направления.
К нерадикальному постпозитивизму в МО, как правило, относят нормативный подход (М. Уолцер139, К. Браун140, М. Фрост141) и историческую социологию (Ф. Холидэй142, С. Хобден143, Дж. Хобсон144, Б. Бузан145, Р. Литтл146 и т. д. — практически все они выходцы из Английской школы, традиционно подчеркивавшей социологические аспекты теории МО).
Нормативистская теория в МО анализирует исключительно ценности, а не факты. В ней акцент ставится на исследовании того, как различные авторы и школы определяют и описывают, чем, на их взгляд, должны быть те или иные системы, институты, связи, структуры в поле международных отношений. Нормативистов интересует не реальность международных отношений, как она есть, а то, какой она должна была бы стать в соответствии с описывающими ее теориями. Нормативисты исследуют теорию как проектирование реальности, отводя эмпирическим фактам и процессам второстепенное значение или вообще не учитывая их.
Нормативисты, в частности М. Уолцер147, применяют к МО принцип «густого описания» (thick description), введенный антропологом К. Гирцем148. Описание общества или политической системы (в нашем случае системы МО) может быть либо «разбавленным» («поверхностным» — thin), либо «густым» (thick). В первом случае в рассмотрение включаются только наиболее выделяющиеся стороны явления, бросающиеся в глаза больше всего и, на первый взгляд, предопределяющие все остальное. На основании связей между такими выдающимися надо всеми остальными феноменами и строятся классические теории позитивистов в МО (а также большинство теорий в других областях знаний). «Густое» описание предполагает более тщательный и многомерный анализ разных сторон явления, включение в рассмотрение тех сторон, которые, на первый взгляд, могут показаться второстепенными и иррелевантными — все то, что касается нюансов культуры, ценностей, быта, психологических установок и привычек, исторических традиций, широкого поля смыслов, присущих каждому конкретному обществу как уникальному явлению. Классические теории сбрасывают эти факторы со счетов, удовлетворяясь «разбавленным» описанием (с высокой степенью редукции) и полагая, что отдельные наиболее значимые инстанции (государство — у реалистов, государство и демократия — у либералов, классы — у марксистов и т. д.) полностью и исчерпывающе дисконтируют все остальные факторы, выступая как обобщающий результирующий вектор. В грубом приближении такого «разбавленного» описания, как правило, бывает достаточно. Но для строгой научности это неприемлемо, настаивают нормативисты, так как в ходе углубленного исследования и «густого» описания часто вскрывают такие факторы и соотношения, которые радикально меняют всю наблюдаемую картину и, в частности, прогнозируют и систематически описывают заложенные в ней сбои, кризисы и синкопы, не улавливаемые позитивистскими методами. «Смысл имеет значение» — это могло бы стать формулой нормативистов в МО.
Историческая социология
Представители «исторической социологии», сложившейся в лоне последнего поколения ученых Английской школы МО, основывают свои концепции на критике двух выделяемых особенностей большинства классических теорий МО: хронофетишизма и темпоцентризма (C. Хобден149).
«Хронофетишизмом» они называют присущее теоретикам МО (ложное) убеждение, что порядок международных отношений, который существует в настоящее время, возник сам по себе, является естественным, единственно возможным, спонтанным и неизменным, «самосозданным» и «вечным». Такая установка затемняет изучение процессов и механизмов властвования, скрывает логику формирования социальной идентичности, игнорирует баланс инклюзий/эксклюзий, что совокупно не «раз и навсегда», но постоянно производит настоящее, как оно есть, через череду изменений.
«Темпоцентризм» же — это иллюзия изоморфизма (однородности) всех существующих и существовавших когда-либо систем международных отношений, рассматриваемых на основании тех моделей, которые являются преобладающими сегодня, что затрудняет понимание сущности международных отношений в их исторической эволюции.
Помещая МО на шкалу истории, сторонники «исторической социологии» приходят к выявлению «интернациональных систем» (Б. Бузан, Р. Литтл150), каждая из которых представляет собой совершенно особую модель взаимодействия различных акторов внутри и вовне базовых политических единиц (units) в том контексте, который условно можно назвать «интернациональными отношениями». Развивая историко-социологический подход к интернациональным системам, Б. Бузан задается очень важным вопросом: а возможно ли построение теорий МО в ином идейно-историческом и социологическом контексте, нежели западный?151 Это является очень существенной особенностью исторической социологии в МО, делающей ее важным инструментом для разработки Теории Многополярного Мира (о чем речь пойдет в следующей главе).
Повышенное внимание к прошлому и к характеру исторических трансформаций «интернациональных систем» позволяет не только точнее понять настоящее, но конструировать будущее (так как здесь акцент ставится на осознании возможных перемен), которое верстается уже сейчас. От фиксированных «позитивных» реалий классических теорий МО «историческая социология» ведет к постоянно меняющимся семантически переменным единицам и конфигурациям, требующим всякий раз особого и тщательного рассмотрения. По сравнению с такими утонченными концепциями классические теории МО выглядят грубыми аппроксимациями, основанными на неоправданном и упрощенном редукционизме.
Конструктивизм в МО
Между позитивистскими и постпозитивистскими парадигмами располагается конструктивизм (А. Вендт152, Н. Онуф153, М. Финнмор154, Дж. Рудджи155, П. Катценштайн156, С. Гудзини157 и т. д.). По крайней мере, на этом настаивают сами представители этого направления в МО (в частности, А. Вендт).
Представители этого направления сосредоточивают основное внимание на когнитивной сфере — т. е. области мышления. Так, Марта Финнмор утверждает158, что мировая политика в первую очередь определяется не объективной структурой отношений материальных сил, но когнитивной структурой, состоящей из идей, верований, ценностей, норм и институций, взаимно принимаемых акторами. МО, согласно ей, есть сумма не баланса сил (могуществ — power), но сигнификаций и социальных ценностей159.
Другой конструктивист, Питер Катценштайн, привлекает внимание к значимости культурных факторов в МО, которые в определенных ситуациях становятся определяющими. Он показывает, что идеальная структура, формирующая разделяемые акторами нормативы, не просто аффектирует их поведение, но способствует конституированию самих этих акторов, конструированию их идентичности и их интересов — эти интересы не объекты, ожидающие обнаружения, но конструкции социальных взаимодействий. Культурные среды не просто влияют на мотивации поведения государств, но аффектируют фундаментальный характер этих государств, их идентичность, считает он160.
Эту же тему развивает один из основателей конструктивистского подхода в МО Николас Онуф, настаивающий на том, что структуры и агенты (акторы) международных отношений влияют друг на друга и постоянно переопределяют и реконституируют друг друга. Он пишет в своей книге, чье название могло бы стать кратко изложенной программой конструктивизма «Мир, который мы сами и создаем», что «не только социальные отношения делают людей тем, что они есть, но и люди делают эти отношения тем, что они есть, через взаимодействие друг с другом и с природой»161.
Другой видный представитель конструктивизма и крупнейший теоретик этого направления, Александр Вендт, выделяет три возможные модели трансляции культурной парадигмы:
в реалистской парадигме государство разделяет культуру по принуждению;
в либеральной — по своим интересам;
конструктивизм предлагает сделать акцент на консенсусной легитимации: государство разделяет культуру, тогда культура становится структурным и структурирующим фактором, конституируя и реконституируя государства через их идентичности и интересы.
Вендт описывает свой подход в рамках предложенной им самим системы категорий: материализм/идеализм — индивидуализм/холизм162, о чем уже говорилось ранее. Сочетание идеализма с холизмом, не нашедшее соответствия в классических позитивистских теориях, развертывается в постпозитивизме (и в частности, в пограничном случае конструктивизма) следующим образом.
Идеализм состоит в том, что международная система МО мыслится как ансамбль, состоящий из идей, разделяемых государствами, а не из баланса сил (powers) или средств производства; социальные структуры предопределены разделяемыми акторами-идеями, а не материальными соотношениями, то есть они суть культуры, как совокупность социально разделяемых знаний.
Холизм же здесь означает, что интересы государства не эндогенны акторам (неважно: государствам, корпорациям, отраслям или индивидуумам), не строго фиксированы, но конституированы и аффектированы всей интернациональной системой. То есть поле международных отношений есть самостоятельная живая и конституирующая среда; интересы и идентичности социальных акторов конструируются идеями, которые они разделяют, то есть культурой, в которой они укоренены, и никогда никому не навязываются раз и навсегда кем-то одним, без взаимодействия с остальными.
Вместо одной идентичности акторов МО — государство, режим, класс — Вендт предлагает выделять четыре уровня идентичности:
а) корпоративная идентичность: государство как организационный актор, связанный с обществом, которым он управляет посредством структуры политической власти (на этом исчерпывается реализм);
б) типовая идентичность: политический режим и экономическая система, а также частично социальные особенности (обратим внимание на относительность этих понятий в системе международных отношений в разных обществах: для одних одни критерии оценок, для других — другие) — на этом сосредоточивают свое внимание либералы и транснационалисты;
в) ролевая идентичность: свойства государств в отношениях с другими государствами (выделение пар гегемон/сателлит, государство, выступающее за статус-кво/государство, не удовлетворенное своим положением в сложившейся международной среде, — концепт «неудовлетворенного могущества»); это стоит в центре внимания неореалистов и представителей Английской школы в МО;
г) коллективная идентичность: идентификация двух и более государств как принадлежащих к единому «эго», как часть целого (это направление разрабатывают неолибералы, неореалисты и представители Английской школы МО).
Последовательно примененный к анализу действительности, такой метод показывает, что все национальное (безопасность, интерес, выживание и т. д.) встроено (embedded) в нормы и ценности, конституирующие эти идентичности. Следовательно, национальные интересы состоят из международно-разделяемых идей и верований; они-то и структурируют международную политическую жизнь и придают ей смысл.
Вендт трактует базовое для МО понятие «анархии» в трех вариантах:
анархия Гоббса (другой как враг),
анархия Локка (другой как конкурент),
анархия Канта (другой как друг).
Первый случай дает нам концептуальную канву реалистского анализа, второй — либерального, третий позволяет осмыслить постгосударственную модель организации человечества, как глобального гражданского общества, по ту сторону любой государственности (неолиберализм, транснационализм, отчасти мир-система неомарксистов с поправкой на классовый антагонизм).
Статус постпозитивистских теорий в МО
Постпозитивистские парадигмы во всем их разнообразии в последние десятилетия стали важнейшей составляющей всей научной дисциплины МО, и их значение постоянно растет.
В отношении этих подходов следует заметить, что методологически они являются слишком сложными для того, чтобы играть заметную роль в тех случаях, когда ту или иную внешнеполитическую концепцию требуется донести до широких масс. Постпозитивисты опираются на философский и социологический метод и в качестве предмета своих исследований имеют не сами международные отношения, но теории МО, МО как дисциплину, как продукт «вторичной обработки». Отсюда их критический потенциал: они представляют собой «науку второго уровня», где рациональному (критическому) осмыслению подвергаются сами основы научной рациональности. Это создает дополнительный «этаж», особое измерение научной рефлексии. Апелляции к таким теориям в широком обиходе, очевидно, неуместны, так как требуют очень высокого уровня компетенции.
Но в научной среде МО, напротив, именно постпозитивистскому подходу уделяется все больше внимания. И частично отдельные стороны этих научных парадигм успешно включаются в те или иные проекты и программы, связанные с МО.
Можно кратко сформулировать состояние дел в этой сфере таким образом: сегодня существует возможность заниматься внешней политикой и практикой в сфере международных отношений на основе классических позитивистских теорий МО, и этого может оказаться довольно. Но на уровне академической науки и для участия в серьезных научных конференциях, дебатах и симпозиумах этого уже недостаточно, и без знакомства с постпозитивистскими тенденциями в МО ни один специалист-международник не будет обладать необходимым минимумом компетенции.
Существующий спектр теорий и парадигм МО не содержит в себе законченной Теории Многополярного Мира
Краткий обзор всего спектра существующих теорий МО был необходим для того, чтобы наглядно проиллюстрировать следующее обстоятельство: на сегодняшний день ни в одной из наличествующих парадигм нет готовой Теории Многополярного Мира, и более того, в существующем контексте места для такой теории не зарезервировано. Долгое время область МО считалась «американской наукой», так как развивалась преимущественно в США. Но в последние десятилетия ее изучение получило более широкое распространение в научных заведениях и институтах всего мира. Однако до сих пор эта дисциплина носит на себе явный отпечаток западоцентричности. Она была разработана в западных странах в эпоху Модерна и сохраняет историческую и географическую связь с тем контекстом, в котором она возникла изначально и где проходило ее становление. Это выражается, в частности, и в главной оси дебатов, вокруг которых складывалась МО как дисциплина (реалисты vs либералы), что отражала специфику основных забот и проблем собственно американской внешней политики (повторяя в чем-то классический для США спор изоляционистов и экспансионистов).
На последнем этапе, и особенно в среде постпозитивистских подходов, явно проявилась тенденция к релятивизации американоцентризма (западоцентризма в целом), отчетливо дали о себе знать импульсы к демократизации теорий и методов, к расширению критериев, к более равномерному распределению акторов МО и более внимательному («густому») анализу их семантических структур и идентичностей. Это шаг в сторону релятивизации западной эпистемологической гегемонии. Но до настоящего времени даже критика западной гегемонии строилась по законам самой гегемонии. Так, типично западные концепты демократии и демократизации, свободы и равенства переносятся на незападные общества и иногда даже противопоставляются Западу, как будто эти концепты представляют собой «нечто универсальное»163. Если противостояние Западу идет под знаменами универсализма западных ценностей, такое противостояние обречено на то, чтобы остаться стерильным.
Поэтому для того, чтобы выйти за границы западоцентричной цивилизации, необходимо встать на дистанцию в отношении всех ее теоретических концептов и методологических стратегий — даже тех, которые содержат критику самого Запада. По-настоящему альтернативная модель МО и, соответственно, структура миропорядка может сложиться только в оппозиции ко всему спектру западных теорий в МО — в первую очередь позитивистских, но отчасти и постпозитивистских.
Отсутствие среди рассмотренных нами теорий МО Теории Многополярного Мира (ТММ) оказывается не досадной случайностью или небрежением, но вполне закономерным фактом: ее в этом контексте, так или иначе закодированном установками западной когнитивной (эпистемологической) гегемонии, просто не может быть.
Тем не менее теоретически она вполне может быть построена. И учет широкой панорамы существующих теорий МО только поможет ее корректно сформулировать.
Если мы всерьез приступим к построению такой теории и изначально займем дистанцию по отношению к когнитивной гегемонии Запада в сфере МО, то есть если мы поставим под вопрос существующий спектр теорий МО в качестве аксиоматической базы, то на втором уровне мы вполне можем заимствовать из этой сферы отдельные составляющие, всякий раз подробно оговаривая, на каких условиях и в каком контексте мы это осуществляем. Ни одна из существующих теорий МО, строго говоря, не релевантна для построения Теории Многополярного Мира. Но многие из них содержат в себе элементы, которые, напротив, вполне можно при определенных условиях в ТММ интегрировать.
Гегемония
и ее деконструкция
Значение постпозитивизма
Построение Теории Многополярного Мира начинается с глубокого историко-философского анализа самой дисциплины МО.
В этом случае наиболее полезны оказываются постпозитивистские теории, стремящиеся (хотя и чаще всего безуспешно) выйти за пределы «этноцентризма»164, свойственного западноевропейской культуре, науке и политике, и деконструировать волю к власти и доминации Запада (в последний период истории — США) как основное содержание всего теоретического дискурса в этой области165. Представители критической теории и постмодернизма в МО, и не в меньшей степени сторонники историкосоциологического подхода и нормативизма, наглядно демонстрируют, что все современные теории МО строятся вокруг гегемонистского дискурса166. Этот гегемонистский дискурс является характерной чертой западноевропейской цивилизации, уходящей корнями к греко-римскому представлению о структуре Эйкумены, в центре которой находится ядро «цивилизации» и «культуры», а по периферии зоны «варварства» и «дикости». Такое представление было свойственно и иным империям — Персидской, Египетской, Вавилонской, Китайской, а также индийской цивилизации, неизменно считавшим себя «центром мира», «Срединным Царством».
На более низком уровне с аналогичным «этноцентрическим» подходом мы сталкиваемся практически у всех архаических племен и коллективов, оперирующих с картой культурной географии, в центре которой находится само племя (люди), а вокруг него — по мере отдаления — внешний мир, постепенно расчеловечивающийся вплоть до зоны «потустороннего» — духов, чудовищ и иных мифических существ.
Генеалогию современного западного универсализма можно проследить вплоть до эпохи Средневековых империй, и еще дальше к Античной греко-римской цивилизации, и наконец, вплоть до архаического этноцентризма простейших человеческих коллективов, архаических племен, орд. Сплошь и рядом даже самые неразвитые примитивные племена именно сами себя считают «людьми», и даже «высшими существами», и отказывают в этом статусе ближайшим соседям даже в том случае, если эти соседи наглядно демонстрируют социальные и технологические навыки, многократно превосходящие культуру данного племени167. Постпозитивисты интерпретируют эту особенность как базовую когнитивную установку, которая a posteriori избирательно подыскивает (или фабрикует, в случае их отсутствия) пристрастные аргументы, подтверждающие это мнимое «превосходство» и мнимый «универсализм».
Контргегемония
Выявление западной гегемонии как основы западного дискурса, помещение этого дискурса в конкретный исторический и географический контекст является первым фундаментальным шагом для построения Теории Многополярного Мира. Многополярность станет реальной только в том случае, если сумеет осуществить деконструкцию гегемонии и развенчать претензии Запада на универсализм своих ценностей, систем, методов и философских оснований. Если же опрокинуть гегемонию не удастся, любые «многополярные» модели будут лишь той или иной разновидностью западоцентричных теорий. Те, кто, принадлежа к западной интеллектуальной культуре, стремятся выйти за пределы гегемонии и создать контргегемонистский дискурс (например, Р. Кокс), фатально остаются внутри этой гегемонии, т. к. строят свою критику на таких постулатах, как «демократия», «свобода», «равенство», «справедливость», «права человека» и т. д., что, в свою очередь, является набором западоцентричного миропонимания. Этноцентризм заложен в самом их основании. Они намечают верный путь, но сами пройти по нему до конца не способны. Они понимают искусственность и лживость претензий своей цивилизации на универсальность, но не могут найти доступа к альтернативным цивилизационным структурам. Поэтому контргегемонистская теория должна созидаться за пределом западного поля смыслов, в зоне промежуточной — между «ядром» мирсистемы (в терминологии И. Валлерстайна) и «периферией» (где по культурным обстоятельствам корректное понимание западной гегемонии настолько маловероятно, что им следует пренебречь). «Второй мир», в свою очередь, именно за счет своей ангажированности в постоянный и интенсивный диалог с Западом, с одной стороны, может осознать природу и структуру гегемонии, а с другой, имеет в своих истоках альтернативные системы культурных ценностей и базовых цивилизационных критериев, на которые можно опереться в отвержении этой гегемонии. Иными словами, контргегемония в интеллектуальном пространстве самого Запада всегда вынуждена оставаться абстрактной, тогда как в зоне «Второго мира» она вполне может стать конкретной.
Деконструкция воли к власти
Первым этапом является фиксация внимания на воле к власти Запада как цивилизации.
Сегодня Запад претендует на универсальность и абсолютность своей ценностной системы, выдает себя за нечто глобальное. На основе той системы он стремится реорганизовать весь мир, распространив на него те процедуры, критерии, нормы и коды, которые были выработаны на самом этом Западе в последние столетия. Как мы видели, отождествление локальной культуры с универсальной культурой, а ограниченного коллектива с целым человечеством (или, по меньшей мере, с избранной частью человечества, его элитой, способной выступать от его имени) есть черта, присущая любому социуму — как имперскому, так и архаическому. Поэтому сама претензия западной цивилизации на универсализм не содержит в себе ничего уникального и из ряда вон выходящего. Этноцентризм, деление всего мира на «мы-группу» (как правило, мы — «лучшие, нормативные, образцовые») и «они-группу» (как правило, они — «худшие, враждебные, представляющие угрозу»168) является социальной константой. И при этом явная произвольность и относительность такой установки сплошь и рядом не рефлексируются или недостаточно рефлексируются даже самыми развитыми и комплексными обществами, в других вопросах демонстрирующими гибкость суждений и навыки апперцепции. Воля к власти движет обществами, но старательно избегает прямого взгляда, направленного на нее саму. Она стремится скрыть себя за «очевидностью» или сложной системой аргументаций.
Начинать построение ТММ надо с того, что признать Запад ядром гегемонии и зафиксировать это в ясной и недвусмысленной аксиоматике. Как только мы попытаемся сделать это, мы тут же натолкнемся на интенсивное возражение со стороны самих западных интеллектуалов. Этот упрек, скажут они, целиком правомерен в отношении европейского прошлого. Но в настоящем сама западная культура отказалась от колониальных практик и евроцентристских теорий, приняла нормы демократии и мультикультурализма. Чтобы возразить на это, можно ситуативно встать на точку зрения марксизма и продемонстрировать, что Запад в буржуазную эпоху отождествил свою судьбу с капиталом и стал зоной его географической фиксации. А смысл капитала состоит в доминации над пролетариатом, поэтому под маской «демократии» и «равенства» в условиях капитализма скрываются все та же воля к власти и практики эксплуатации и насилия. Так и поступают представители критической теории, и в этом они совершенно правы. Но чтобы не быть привязанными к марксизму с его дополнительными отягощающими догмами, многие из которых далеко не очевидны и неприемлемы, необходимо расширить теоретическую базу разоблачения гегемонии и перевести ее из социально-экономического в более общий, цивилизационно-культурный контекст.
Евразийская критика евроцентризма и западного универсализма
Обстоятельную критику гегемонистских претензий западной цивилизации начали еще русские славянофилы, а в ХХ веке продолжили представители евразийского направления. Князь Н.С. Трубецкой в программной работе «Европа и человечество»169, положившей основу идейного течения евразийцев, методом философского культурологического и социологического анализа блестяще показал искусственность и необоснованность претензий Запада на универсализм. В частности, он указывал на вопиющую неадекватность подобных методов как сведение содержания фундаментального тома «Чистая теория права»170 юриста Ганса Кельзена почти исключительно к истории римского права и европейской юриспруденции, будто иных правовых систем (персидской, китайской, индусской и т. д.) вообще не существовало. Знак равенства между «европейским» и «всеобщим» — несостоятельная претензия. Единственным ее основанием является факт прямого физического силового и технологического превосходства, право силы. Но это право силы ограничено той областью, где действуют законы материальных сравнений и сопоставлений. Перенесение этих признаков на интеллектуальную и духовную сферу есть разновидность «расизма» и «этноцентризма». Исходя из этих принципов, евразийцы развили теорию множественности историко-культурных типов (начало чему положил Н. Данилевский171), среди которых современный западный тип (романо-германская цивилизация) представляет собой лишь географическую локальность и исторический эпизод. Гегемония и успехи ее навязывания другим является фактом, с которым нельзя не считаться. Но, будучи осознанной как таковая, она перестает быть «очевидностью» или «судьбой» и становится лишь дискурсом, процессом, рукотворным и субъективным явлением, которое можно принять, но можно и отвергнуть, с которым можно согласиться, но который можно и оспорить.
Таким образом, контргегемония, необходимость которой обосновывают сторонники критической теории в МО, может быть с успехом дополнена совершенно другим интеллектуальным арсеналом — со стороны консервативных евразийцев, ориентирующихся в своей оппозиции Западу не на «пролетариат» и «равенство», но на культуру, традицию и духовные ценности.
Исторические метаморфозы гегемонии
Далее важно проследить, какие метаморфозы проходит сама западная гегемония в последние столетия.
Когда мы имеем дело с традиционным Государством или с империей, воля к власти выражена более отчетливо и прозрачно. Так было в период империи Александра Македонского, Римской империи, Средневековой Священной Римской Империи германских наций и т. д. Но в основании более позднего имперского универсализма вначале лежала греческая философия и культура, затем римское право, позднее христианская Церковь. На этих этапах воля к власти Запада проявлялась в форме сословного иерархического общества и в имперской стратегии в отношении соседних народов, которые либо включались в западную эйкумену, либо, если это не удавалось, становились врагами, от которых надо было защищаться. Властные отношения и структуры доминации были прозрачны и во внутренней политике, и в области международных отношений. Особенности такой «интернациональной системы» подробно прослеживают Б. Бузан и Р. Литтл, определяя ее как «античную» или «классическую»172. Здесь гегемония неприкрыта и откровенна, а следовательно, и не является в полном смысле «гегемонией», как ее понимал Грамши, поскольку доминация здесь осуществляется эксплицитно, и теми, на кого она направлена, так и осознается. Явную власть можно либо терпеть, либо, при возможности и желании, свергнуть. С гегемонией (в грамшистском понимании) все обстоит несколько сложнее.
Гегемония как таковая складывается в Новое время, когда меняется вся «интернациональная система» — от «классической» к «глобальной» (Б. Бузан, Р. Литтл). Запад вступает в Новое время и отныне радикально меняет обоснование своего универсализма и оформление своей воли к власти. Отныне оно проходит под знаком «Просвещения», «прогресса» «науки», «секулярности» и «разума», а также борьбы с «предрассудками» прошлого во имя «лучшего будущего» и «человеческой свободы». В этот период образуются национальные Государства и складываются первые буржуазно-демократические режимы. И хотя этот период истории знает чудовищные практики работорговли и колонизации, а также кровопролитные войны между самими европейскими «просвещенными» державами, принято считать, что человечество (= Запад) вступило в новую эру и стремительно движется к «прогрессу», «свободе» и «равенству». Открытая имперская воля к власти и концепт «христианской эйкумены» трансформируются в новые универсальные идеалы, суммируемые в одном понятии «прогресс». Теперь «прогресс» берется в качестве всеобщей ценности, и во имя его развертываются новые формы доминации. Это прекрасно показывают постмодернисты в МО, интерпретируя технический взлет западной цивилизации в Новое время как новое издание воли к власти, меняющей, однако, свою структуру. Теперь иерархические отношения выстраиваются не между «христианами» и «варварами», а между «прогрессивными» и «отсталыми» обществами и народами, между «современным обществом» и «традиционным обществом». Уровень технического развития становится критерием распределения иерархических ролей: развитые страны становятся «господами», неразвитые — «рабами».
На первом этапе Нового времени эта новая структура неравенства выражается грубым образом в практике колонизации. Позднее она сохраняется в более завуалированных формах. В любом случае «глобальная система» МО, отражающая базовые установки Нового времени, есть чисто гегемонистский порядок, где Запад является гегемоном, претендующим на полный контроль как в стратегической, так и в когнитивной сферах. Это одновременно и диктатура западной техники и западной ментальности. Соответственно, социальные признаки западного общества эпохи Модерна и его ценности рассматриваются в качестве общеобязательных для всех остальных народов и культур. А то, что отличается от этой системы, воспринимается с подозрением, как нечто «недоразвитое», «недозападное». По сути, это перенос теории «недочеловека» с биологического (как у германских расистов, также, кстати, являющихся субпродуктом европейского Модерна, как показывает Х. Арендт173) на культурный уровень.
Отвержение неолиберализма и глобализма
В сфере теорий МО яркими выразителями концептуальной гегемонии являются представители реализма и либерализма, которые строят свои концепции, исходя из подразумеваемого универсализма Запада и его ценностей (а также интересов), и соответственно, закрепляют и активно поддерживают гегемонистский порядок.
На другом уровне однополярная модель и многосторонний подход, и даже глобалистская бесполярность представляют собой также разновидности оформления гегемонии — как прямые и откровенные («однополярность» и несколько более «soft-версия» — «многосторонность»), так и имплицитные и завуалированные (т. к. глобализация и транснационализм неолибералов и конструктивистские проекты также представляют собой формы экспансии западных кодов на всю планету).
Соответственно, построение Теории Многополярного Мира должно проходить через отвержение самих основ западной гегемонии и, соответственно, построенных на ней теорий МО.
Критика марксизма (евроцентризм)
Сложнее обстоит дело с марксистской теорией МО. С одной стороны, она жестко критикует саму гегемонию, интерпретируя ее как форму доминации, свойственную капитализму. В этом она наиболее релевантна и продуктивна. Но с другой стороны, она исходит из тех же универсалистских и европоцентристских идей Нового времени как «прогресс», «развитие», «демократия», «равенство» и т. д., что вписывает ее в общий контекст именно западного дискурса. Даже если марксисты и солидарны с освободительной борьбой народов Третьего мира и незападных стран в целом против западного господства, они предвидят для этих стран универсальный сценарий развития, повторяющий путь западных обществ и не допускают мысли о самой возможности какой-то иной логики истории. Марксисты поддерживают незападные народы в их антиколониальной борьбе, чтобы они поскорее смогли пройти самостоятельно все этапы западного пути развития и построить общество, в сущности, такое же, какое уже построено в обществах Запада174. Все общества должны пройти фазу капитализма, составляющие их классы должны стать полностью интернационализированными, и только тогда будут созданы условия для мировой революции. Эти аспекты марксизма в МО противоречат Теории Многополярного Мира, т. к.:
– основываются на том же западном универсализме;
– признают однонаправленный вектор истории всех обществ;
– косвенно оправдывают капитализм и буржуазный строй, считая его необходимой фазой социального развития, без прохождения которой невозможно ни осуществить революцию, ни построить коммунизм.
Марксизм в такой ситуации есть обратная сторона западной гегемонии, которая, критикуя ее наиболее одиозные и лживые аспекты и обнажая ее классовую сущность, при этом не ставит под сомнение историческую оправданность и даже фатальность такого порядка вещей. Марксисты и сторонники мир-системы рассуждают: западная гегемония отвратительна, но она неизбежна, и бороться с ней напрямую бессмысленно, поскольку это только отложит ее неминуемую победу на глобальном уровне и, соответственно, отдалит момент мировой революции. Это значит, марксистское направление в МО следует рассматривать не как антитезу гегемонии, а как ее парадоксальный и не лишенный определенной методологической и концептуальной ценности инвариант.
Критика универсализма в постпозитивистских теориях МО
Ближе всего к Теории Многополярного Мира стоят как раз постпозитивистские теории, критикующие Модерн как таковой и подчас возвышающиеся до антизападных обобщений и прямой фронтальной атаки на гегемонию и волю к власти, составляющую ее осевой вектор.
Среди этих теорий наибольший интерес представляют те, которые в ходе деконструкции западной гегемонии четко помещают Запад в пространственно-географические границы и, соответственно, прослеживают эволюцию западной доминации по временной шкале и на географической карте мира175. Параллельно этому осуществляется эпистемологический анализ интеллектуальных концептов и схем, которые на каждом историческом этапе оформляли западную волю к власти и обосновывали его гегемонию. Такого рода работы показывают, что Запад есть цивилизация среди всех других цивилизаций, и в этом качестве ее претензии на универсализм сводятся до уровня конкретных исторических и географических границ. В этом смысле «современное общество» и совокупность связанных с ним аксиоматических тезисов (секулярность, антропоцентризм, главенство техники, прагматизм, гедонизм, индивидуализм, материализм, консьюмеризм, транспарентность, толерантность, демократия, либерализм, парламентаризм, свобода слова и т. д.) предстают чем-то локальным и преходящим — не более чем моментом мировой истории, имеющим строгие рамки. Такой анализ подрывает главное условие западной гегемонии — ее сокрытие под покровом универсалистских претензий, выдаваемых за нечто «само собой разумеющееся и очевидное». В этом огромный вклад постпозитивистов в разработку Теории Многополярного Мира.
Но здесь стоит поставить (быть может, риторический) вопрос: а почему в самой постпозитивистской среде не сложилась законченная теория многополярности, ведь релятивизация Запада и деконструкция его гегемонии были налицо и, казалось бы, сами собой подталкивали к тому, чтобы обратиться к иным цивилизациям и иным полюсам, а уже на основе глубинного анализа этих цивилизационных альтернатив и предложить полицентричную картину мира? Но постпозитивисты, как правило, лишь доводят до своих логических пределов именно западоцентричный дискурс, предлагая сделать не шаг в сторону от Запада и Модерна, но шаг вперед, в постисторию, в мир, который должен последовать за исчерпавшим себя Модерном, но сохраняющий с ним преемственность, логическую, историческую и моральную связь. Вместо того чтобы подвергнуть деконструкции принципы «свободы», «демократии», «равенства» и т. д., постмодернисты настаивают лишь на еще «большей свободе», «настоящей демократии» и «полном равенстве» и критикуют Модерн за то, что он этого предоставить не может. Отсюда и споры между рядом современных философов176 и социологов относительно того, можно ли считать Постмодерн по-настоящему новой и альтернативной парадигмой в сравнении c Модерном, или мы имеем дело лишь с высоким Модерном, ультрамодерном, «новым Модерном», т. е. с доведением до логического конца предпосылок и нормативов, обозначенных, но не реализованных до конца именно Новым временем.
Как бы то ни было, постпозитивисты при всех их несравненных достоинствах и полезности их работ для построения Теории Многополярного Мира остаются глубоко западными людьми (кем бы они ни были по происхождению) и продолжают мыслить и действовать в рамках, поставленных западной цивилизацией, частью которой они являются даже в том случае, если отчаянно критикуют ее и ее основания (надо заметить, что приглашение к рациональной критике заложено как ценность в самой модели Нового времени).
Постмодернисты расчищают путь для построения Теории Многополярного Мира, т. к. благодаря их работам гегемония Запада становится очевидным, прозрачным и всесторонне описанным явлением, и претензии на универсальность западных ценностей объясняются через обращение именно к этой гегемонии и являются ее практическим следствием. А это значит, что она разоблачается и перестает быть столь эффективной, как в том случае, когда ее наличие не осознается и не замечается. Западные ценности и установки являются локальными и исторически ограниченными, а не глобальными и неизменными, и, соответственно, мировой порядок, построенный на их основании, есть выражение гегемонистской доминации и продукт экспансии одного центра в ментальной и идеальной средах, а не судьба, не прогресс, не объективный закон развития и не предзаданная фатальность. Утвердив и обосновав это, мы оказываемся в отношении гегемонии лицом к лицу. Она более не проникает в нас исподволь, пропитывая нас и захватывая контроль над нашей волей и нашим сознанием; она объективируется как внешняя и чуждая сила, отдельная от нас и пытающаяся навязать нам через суггестию и принуждение свою абсолютную власть. Хоть раз посмотрев гегемонии глаза в глаза, мы никогда уже не будем прежними.
Цивилизация как актор (большое пространство и политейя)
Теории С. Хантингтона: введение концепта «цивилизация»
Несмотря на огромное значение постпозитивистских теорий в МО, к ТММ вплотную подошли не они, а представитель консервативного направления в американской политике, убежденный сторонник реализма политический философ С. Хантингтон. Он в своей программной статье и позднее в полемической книге «Столкновение цивилизаций»177 развернул концептуальную картину баланса сил в современном мире, которая в целом может быть взята за набросок ТММ в первом приближении.
Хантингтон в своей программной работе, сделавшей его всемирно известным и вызвавшей шквал реакций, рассматривает новые условия миропорядка, сложившиеся после распада двухполярного мира. Он полемизирует со своим учеником, другим известным политическим аналитиком Ф. Фукуямой, который, интерпретируя конец двухполюсного мира, пришел к выводу о «конце истории»178, т. е. о фактически наступившем триумфе либерально-демократической модели в планетарном масштабе и о совершившейся глобализации. В духе неолиберальной парадигмы МО Фукуяма посчитал, что демократия стала универсальной нормой во всем мире, и, следовательно:
- отныне угрозы военных конфликтов сведены к минимуму (если не исключены вовсе — «демократии друг с другом не воюют»);
- единственной нормой становится мирная торговая конкуренция;
- гражданское общество утвердилось вместо национальных Государств и
- приходит время провозглашения мирового правительства.
На это С. Хантингтон возражает с пессимистических позиций. Согласно ему:
- конец двухполярного мира не ведет автоматически к установлению глобального и однородного либерально-демократического миропорядка, а следовательно,
- история не закончена, и
- говорить о конце конфликтов и войн преждевременно.
Мир перестал быть двухполярным, но не стал ни глобальным, ни однополярным. В нем наметились совершенно новая конфигурация, новые коллизии, новые столкновения, напряжения и конфликты. Здесь Хантингтон подходит к самому главному моменту и выдвигает совершенно фундаментальную и до сих пор по достоинству не оцененную гипотезу относительно того, кто будет актором, главным действующим лицом этого будущего мира. В качестве такого актора он называет цивилизации.
Именно этот концептуальный шаг и следует считать началом возникновения совершенно новой теории — Теории Многополярного Мира. Хантингтон совершает главное: он выделяет нового актора, цивилизацию, и одновременно говорит о множественности акторов, употребляя в названии своей статьи это слово во множественном числе: столкновение «цивилизаций».
Если мы согласимся с Хантингтоном в этом принципиальном моменте, мы окажемся в концептуальном поле, которое выходит за рамки классических теорий МО, и даже постпозитивистских парадигм. Стоит только признать множественность цивилизаций и отождествить их с главными акторами (units) в новой системе международных отношений, как мы получаем в первом приближении готовую карту многополярного мира. Теперь у нас есть и идентификация того, что является полюсом такого многополярного устройства: этим полюсом является цивилизация. Следовательно, сразу же можно ответить на принципиальный вопрос о том, сколько полюсов должно иметь многополярное устройство. Ответ: столько же, сколько существует цивилизаций.
Итак, благодаря С. Хантингтону мы получаем в первом приближении frame новой теории. В этой теории постулируется модель, в которой существует несколько центров принятия глобальных решений в поле международных отношений, и этими центрами являются соответствующие цивилизации.
Хантингтон исторически принадлежит к школе реалистов в МО. Поэтому он тут же переходит от выявления цивилизаций как акторов нового миропорядка к анализу вероятности конфликта (столкновения) между ними. Точно так же устроена базовая модель реалистов при оценке национальных интересов: в первую очередь, при анализе международных отношений они рассматривают вероятность конфликтов, зону пресечения интересов и способность к обеспечению обороны и безопасности. Но фундаментальное различие состоит в том, что классические реалисты прикладывают эти критерии к национальному Государству, считающемуся главным и единственным актором в международных отношениях, как к строго и легально конституированной реальности, признанной на международном уровне, а Хантингтон применяет тот же подход к цивилизации — понятию гораздо более расплывчатому, нечеткому и не проработанному концептуально. И тем не менее именно интуиция Хантингтона и тот качественный сдвиг в определении актора нового миропорядка от национального Государства к цивилизации представляет собой самый важный момент его теории. Это открывает совершенно новые пути к пониманию структуры международных отношений и закладывает основы ТММ.
Понятие «цивилизация» в МО
Здесь важно ясно понять, что такое цивилизация и какой смысл заключен в этом принципиальном для ТММ понятии.
Цивилизация не является концептом, фигурирующим ни в одной из теорий МО — ни в позитивистских, ни в постпозитивистских. Это не Государство, не политический режим, не класс, не сеть, не сообщество, не группа индивидуумов и не отдельные индивидуумы. Цивилизация — коллективная общность, объединенная причастностью к одинаковой духовной, исторической, культурной, ментальной и символической традиции (чаще всего религиозной в своих корнях, хотя не обязательно осознаваемой в терминах конкретной религии), члены которой осознают близость друг к другу, независимо от национальной, классовой, политической и идеологической принадлежности179.
После классической работы О. Шпенглера180 некоторые авторы разделяют, вслед за ним, «цивилизацию» и «культуру», где под «культурой» понимается духовно-интеллектуальная общность, а под «цивилизацией» — фиксация рационально-технологических установок и структур. По Шпенглеру, цивилизация есть «остывшая» культура, культура, утратившая внутренние силы и волю к развитию и расцвету и опустившаяся до отчужденных механических форм. Однако это разделение не стало общепринятым, и в большинстве работ (например, у А. Тойнби181) понятия «цивилизация» и «культура» оказываются практически синонимами. Для нас важно, что С. Хантингтон понимает под «цивилизацией» практически то же, что и под «культурой», и поэтому не случайно при описании и перечислении цивилизаций он преимущественно обращается к религиям или религиозным системам.
В теоретическом поле МО этот концепт встречается впервые и только сейчас позиционируется как возможный актор глобальной политики. По классификации Бузана /Литтла182:
- в классической или античной системе интернациональных отношений (традиционное общество, Премодерн) фигурируют традиционные Государства и империи;
- в глобальной системе (международные отношения в эпоху Нового времени) — национальные Государства буржуазного типа;
- в последней постмодернистской системе — наряду с Государствами транснациональные сетевые сообщества, асимметричные группы и иные «множества».
Ни в одной из них нет цивилизаций как акторов. «Цивилизация» как понятие фигурирует и в исторической науке, и в социологии, и в культурологии. Но в МО этот концепт вводится впервые.
Логика Хантингтона, выдвинувшего гипотезу цивилизации в МО, довольно прозрачна. Конец двухполюсного мира и противостояния друг другу двух идеологических лагерей, капиталистического и социалистического, завершается победой капитализма и ликвидацией СССР. Отныне у капиталистического Запада больше нет «формального» противника, способного на рациональном и интеллигибельном уровне обосновать свою позицию, предложить симметричный альтернативный сценарий мировой системы и доказать на практике свою конкурентоспособность. Из этого Ф. Фукуяма делает поспешный вывод о том, что Запад стал отныне глобальным явлением, и все страны мира и все общества превратились в единое однородное поле, в целом воспроизводящее с небольшими отклонениями парламентскую демократию, рыночную экономику и идеологию прав человека. Поэтому, считает Фукуяма, время национальных Государств прошло, и мир стоит на пороге полной и окончательной интеграции. Человечество на глазах превращается в глобальное гражданское общество, политика уступает место экономике, война полностью сменяется торговлей, либеральная идеология становится универсально признанной безальтернативной нормой, все народы и культуры смешиваются в едином космополитическом плавильном котле183.
Фукуяма в данном случае следовал правилам «разбавленного» (thin) анализа. Он совершенно справедливо выделяет главные и самые яркие черты происходящих событий. Действительно, конец социализма устраняет с исторической арены самого серьезного и внушительного идеологического противника либеральной демократии, делая ее «универсальной». Никакая другая идеология на этот момент не имеет достаточного распространения, привлекательности и кредита доверия, чтобы всерьез конкурировать с либерализмом. Практически все страны мира принимают de facto и de jure нормативы западной цивилизации. Обществ, игнорирующих нормативы демократии, рыночную экономику и свободу прессы, осталось совсем немного, и те находятся в состоянии перехода к западной модели. Это является достаточным основанием для того, чтобы провозгласить «конец истории», который если не наступил, то наступит вот-вот. К подобному же выводу пришли неореалисты, открыто оправдывающие гегемонию США (Р. Джилпин, Ч. Краутхамер), и неолибералы (восторженно встретившие победу демократии в странах Восточного блока), и некоторые постмодернисты (увидевшие в глобализации новые горизонты индивидуальной свободы).
Хантингтон противопоставляет этому «густой» (thick) анализ, который уделяет больше внимания деталям, качественным сторонам анализируемых процессов и стремится лучше понять глубинное измерение изучаемых трансформаций постбиполярного мира. Он приходит к выводу, что модернизация и демократизация, а также нормативы рыночного либерализма по-настоящему затронули только западные общества, а все остальные страны приняли эти правила игры под давлением необходимости, не включили их в глубину своих культур, прагматически заимствовав лишь отдельные избирательные моменты западной цивилизации — прикладные и технологические. Так, Хантингтон говорит о распространенном в незападных странах явлении «модернизации без вестернизации», когда представители незападных обществ заимствуют определенные западные технологии, но стремятся адаптировать их к местным условиям и сплошь и рядом направить их против того же Запада. Демократизация и модернизация незападных обществ, таким образом, в свете «густого» анализа становятся двусмысленными и относительными и, соответственно, отнюдь не гарантируют тех результатов, которых следовало бы ожидать без учета внутренней подоплеки этих процессов. Чем больше Запад расширяет свои границы, включая в них «всех остальных» (the Rest, незападные общества), тем больше усугубляется эта двусмысленность и возрастает зазор между Западом и незападными регионами, получающими новые технологии и усиливающими свой потенциал, при этом сохраняя связи с традиционными структурами обществ. Вот это обстоятельство и приводит к понятию «цивилизация» как научному концепту МО.
Цивилизации в структуре МО XXI века — это обширные пространственные зоны, которые под влиянием модернизации и с опорой на западные технологии усиливают свой силовой и интеллектуальный потенциал, но вместо того, чтобы полностью принять вместе с этим западную систему ценностей, сохраняют органические и крепкие связи со своими традиционными культурами, религиями и социальными комплексами, подчас резко конфликтующими с западными или даже противоположными им. Распад социалистического лагеря лишь катализирует эти процессы и обнажает такое положение вещей. Вместо симметричной оппозиции Восток — Запад появляется поле напряжений между несколькими цивилизациями. Эти цивилизации, сегодня чаще всего разделенные национальными границами, в ходе глобализации и интеграции будут все теснее осознавать свою общность и действовать в системе международных отношений, руководствуясь общими ценностями и интересами, вытекающими из этих ценностей. В результате развития этих процессов и в случае успешной «модернизации без вестернизации» мы получаем принципиально новую картину баланса сил в мировом масштабе. Это и есть многополярный мир.
Расширенный спектр понятия «цивилизация» в ТММ: определения
Концепт «цивилизации» играет ключевую роль для Теории Многополярного Мира184 (ТММ). Поэтому чрезвычайно важно рассмотреть его на разных уровнях и дать ему различные толкования. В этом вопросе преждевременно настаивать на «строгой ортодоксии» или на каком-то однозначном определении, т. к. мы заведомо имеем дело с принципиально новым теоретическим контекстом, соответствующим той идейной среде, где только и может выстроиться полноценная теория многополярности.
Чтобы стать впоследствии юридической реальностью, «цивилизация» должна быть сопряжена с тем, что К. Шмитт называет «большим пространством»185 и что в ТММ рассматривается как переходный теоретический модуль «преконцепта», располагающийся между этим окончательным оформлением «де-юре» и существующей «де-факто» цивилизацией186. Поэтому можно рассмотреть данную ситуацию схематично:
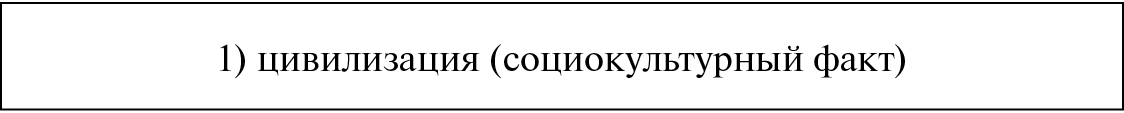

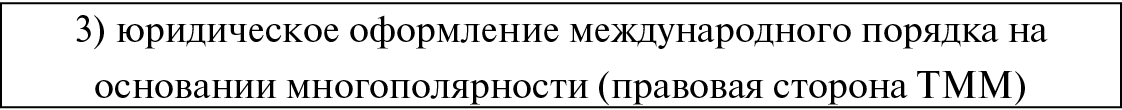
Чтобы перейти от первого уровня ко второму, необходимо уточнить, что понимается под «цивилизацией».
Здесь возможно несколько подходов. Перечислим основные.
Цивилизация как субстанция
(онтологическая концепция цивилизации)Рассмотрение цивилизации как автономной субстанции предполагает приписывание ей онтологического первенства. В этом случае «цивилизация» соответствует аристотелевской категории «подлежащего» и отвечает на вопрос το τι εν ειναι.
Такое представление помещает цивилизацию в центр концептуального поля, расширяемого за счет номенклатуры предикатов. Если цивилизация соответствует субстанции, то набор предикатов описывает ее в каждом конкретном случае, предопределяя, соответственно, ее качественное содержание.
Одна цивилизация как субстанция описывается одним набором предикатов, другая — иным и т. д.
Между цивилизациями как субстанциями могут быть прослежены взаимодействия, взаимовлияния. Субстанции как «вещи» (res) могут быть рассмотрены статически и кинетически, а также динамически (с точки зрения особого силового потенциала).
Продолжая аристотелевскую модель, можно говорить об энтелехиях цивилизаций и о перспективе их тяготения к «естественным местам».
Цивилизация как процесс
(динамическая концепция цивилизации)Такой подход предполагает рассмотрение цивилизации в рамках того, что Ф. Бродель назвал «grande durée»187, т. е. «циклами большой длительности». Впервые (1939) теорию цивилизации как процесса предложил Норберт Элиас188. В этом случае цивилизация представляет собой постоянное изменение всех составляющих, которое становится заметным только тогда, когда цивилизация достигает своей кульминационной точки — входит в период революций, потрясений или войн. Но изменения внутри цивилизационного устройства происходят всегда, хотя и остаются чаще всего незаметными для глаза исследователя.
Таким образом, цивилизация есть состояние, в котором на микроуровне происходят постоянные флуктуации, накапливаются изменения, трансформируются отношения между отдельными элементами.
Такой подход сводим к методу «школы анналов» и качественно отличается от субстанциального подхода, основанного на презумпции постоянной идентичности. Динамический подход предполагает, напротив, что цивилизационная идентичность постоянно меняется, а следовательно, каждый исторический момент должен быть рассмотрен тщательно и его семантическое поле необходимо детально изучить.
Цивилизация как система
(системическая концепция цивилизации)Системический подход в целом близок к динамическому, но ставит в центр внимания изменение обобщающей доминанты, которая представляет собой выражение совокупного баланса микро- и мезопроцессов. Цивилизация может быть рассмотрена в таком случае как социокультурная система (П. Сорокин189) или историко-культурный тип (Н. Данилевский190).
Системный подход к цивилизации характерен также для О. Шпенглера (обосновывающего дуализм цивилизация /культура), А. Тойнби191 (предложившего расширенную номенклатуру цивилизаций) или Л. Гумилева192 (сочетавшего рассмотрение цивилизаций с этнологической перспективой и оригинальной теорией пассионарности).
Цивилизация как структура (структурно-функциональная /морфологическая концепция цивилизации)
В отличие от системического подхода, структурный подход рассматривает цивилизацию как константное явление, изменения внутри которого не влекут за собой существенного морфологического изменения. Форма цивилизации остается на разных этапах ее существования постоянной и выражается в неизменности ее основополагающих структур.
Другое дело, что сами эти структуры и их «материальное» воплощение могут изменяться, а их выражения приобретать различный характер, проявляясь через те или иные идеологические, религиозные или культурные комплексы. Но при этом функциональное значение и соотношение друг с другом основных несущих элементов во всех случаях сохраняется неизменным.
В отличие от субстанциального подхода, структурный подход ставит акцент не на онтологической, но на эпистемологической и гносеологической непрерывности.
Цивилизация как пайдеума (образовательная концепция цивилизации)
Уточнением эпистемологического подхода к цивилизации может служить теория «пайдеумы», развитая представителями исторической школы «культурных кругов», в частности Л. Фробениусом193. Фробениус рассматривает трансляцию культур от одного общества к другому как передачу особого образовательного кода, называемого «пайдеумой». Структура этого кода предопределяет основные цивилизационные практики — как в области экономики и политики, так и в сфере духовной культуры, обрядов, ритуалов, символов и т. д.
Цивилизация, таким образом, есть то, чему можно научить и чему следует учиться.
Совмещение понятия цивилизации как пайдеумы с моделью «культурных кругов» позволяет проследить маршруты распространения древних цивилизаций и продолжение этого процесса в современном мире.
Вопросы образования в такой модели становятся в центре внимания.
Цивилизация как набор ценностей (аксиологическая концепция цивилизаций)
Цивилизация может быть сведена к той совокупности ценностей, которые приобретают в том или ином обществе статус нормативных. Такой аксиологический подход заложен в социологии М. Вебера194 и хорошо известен. Не вдаваясь в детальный анализ цивилизационных структур и не претендуя на понимание логики системного развития, аксиологический подход позволяет оперативно описать цивилизацию на основании ее наиболее явных признаков (ценностей), построить их систематические иерархии и подвергнуть компаративистскому анализу.
Такой подход удобен для экспресс-анализа и для оперативного составления «паспорта цивилизации» в духе того, что антропологи (К. Гирц195) называют «жидким описанием» («thin description»).
Цивилизация как организованное бессознательное (психоаналитическая концепция цивилизации)
Психоаналитическая трактовка цивилизации может быть построена уже на основании поздних работ самого З. Фрейда (в частности, «Тотем и табу»196), где он предлагает применить психоаналитический метод к анализу культурных фактов. В частности, по этой реконструкции «Эдипов комплекс» является социообразующим элементом для всех человеческих обществ. Хотя сам этот тезис был позднее оспорен представителями социальной антропологии (доказавшими, что в некоторых культурах сами предпосылки для «Эдипова комплекса» отсутствуют — в частности в матриархальных культурах аборигенов Тробриандских островов197), идея применить психоанализ к интерпретации культур доказала свою состоятельность.
Еще более продуктивным для понимания цивилизации является метод К.Г. Юнга, развивавшего идею о «коллективном бессознательном»198. Сам Юнг по-разному понимал на разных этапах своего творчества «коллективное бессознательное», но различия в его структуре у представителей разных обществ — это эмпирический факт. На этом основании можно построить психоаналитическую карту цивилизаций.
Особым направлением может служить теория Ж. Дюрана, предложившего свою версию «социологии глубин»199, позволяющую интерпретировать культурные и цивилизационные коды как результаты работы разных режимов воображения.
Цивилизация как (религиозная) культура
Культурологическая интерпретация цивилизации является одной из наиболее очевидных — тем более, что в некоторых европейских языках цивилизация и культура воспринимаются как синонимические термины. Особенность такого подхода состоит не просто в подчеркивании культурного фактора при определении цивилизации и ее качественного содержания, но в повышенном внимании к религиозным основам каждой конкретной цивилизации — и в том случае, если эта религиозность является эксплицитной и социообразующей, и в том случае, если она действует имплицитно, сквозь иные, секулярные идеологии и ценностные системы.
Цивилизация как язык (филолого-лингвистическая концепция цивилизации)
Определение цивилизации как языка предполагает рассмотрение ее структуры с лингвистической и филологической точек зрения. Строго монолингвистических обществ не бывает, тем более в масштабе цивилизации. Поэтому всегда в цивилизации есть один (реже два и более) койне (lingua franca) и целый спектр других языков, переплетенных в общий семантический и концептуальный блок.
Язык и языковое наследие могут выступать как обобщенный эквивалент цивилизации, что позволяет сравнивать цивилизации между собой с помощью средств компаративной лингвистики и семиотики.
На определенном уровне такой подход к цивилизации может быть совмещен со структуралистским подходом.
Цивилизация как первая производная от этноса (этносоциологическая концепция цивилизации)
В книге «Этносоциология»200 разработана модель интерпретации обществ и социальных структур через метод их соотнесения с этносом и его архаическим состоянием. В этой модели цивилизация рассматривается (наряду с Государством и религией) как технический термин, обозначающий переход от этноса к лаосу (народу), как к результату его первого качественного усложнения. Народ отличается от этноса тем, что его структура на порядок более дифференцирована, в нем присутствует социальная стратификация (элиты и массы), сильными позициями наделены структуры Логоса, в центре внимания стоит фигура Другого. В отличие от Государства и религии, цивилизация воплощает этот высокий дифференциал в культуре, философии и искусстве. Хотя сплошь и рядом Государство, религия и цивилизация идут друг с другом рука об руку.
Этносоциология позволяет найти место цивилизации как историко-социальному феномену в цепочке других производных от этноса. В частности, из такой реконструкции видно, что цивилизация относится к парадигме Премодерна и к формам традиционного общества.
Цивилизация как конструкт (конструктивистская концепция цивилизации)
Совершенно отличное понимание цивилизации может быть получено в рамках конструктивистского подхода. Этот подход относится к парадигмам Модерна и Постмодерна. Но если преимущественным объектом конструирования общества в Модерне является Государство (национальное Государство — Etat-Nation), то цивилизация может быть осознана как конструкт и результат проектирования именно в условиях Постмодерна. Однако либеральный и отчасти гошистский Постмодерн занимается, скорее, деконструкцией любых социальных структур, вплоть до их атомизации и обращения к сингулярным индивидуумам (и далее — вплоть до ризомы, тела без органов, машины желания Делеза /Гваттари201). В ТММ и в Четвертой Политической Теории202, однако, мы сталкиваемся с альтернативной версией Постмодерна, и в этом контексте объектом конструирования вполне может стать именно цивилизация как новый и в данном случае искусственный актор.
Цивилизация как Dasein (экзистенциальная концепция цивилизации)
В Четвертой Политической Теории субъект намечается именно через экзистенциальное измерение и идентифицируется в Dasein. Множественность Dasein’ов соответствует множественности цивилизаций. Эта тема намечена в книге «Мартин Хайдеггер. Возможность Русской Философии»203. Это как раз позволяет связать между собой 4ПТ и ТММ как два аспекта одного и того же подхода.
В этом случае цивилизация может быть описана через набор экзистенциалов, каждый из которых будет характерен только для какой-то одной цивилизации. Отсюда же можно прочертить и временные горизонты цивилизации, описанные Хайдеггером в Sein und Zeit204, применительно, естественно, к Dasein’у. Будущее цивилизации, таким образом, будет заключаться в ее возможности аутентично быть. Следовательно, для каждой цивилизации есть свой конкретный Ereignis.
Цивилизация как нормативное поле человека (антропологическая концепция цивилизации)
Наконец, к цивилизации можно применить тот же метод, который используют антропологи для исследования бесписьменных культур и архаических обществ. Франц Боас205 показал, что между обществами не может существовать общей меры и постижение каждого из них требует внутреннего соучастия, включенного наблюдения и даже (временной) смены идентичности. Эту же тему развили и ученики Боаса (американская школа культурной антропологии), и английские представители социальной антропологии, и французские социологи школы Э. Дюркгейма206–М. Мосса207, и структурные антропологи (К. Леви-Строс208), и немецкие этносоциологи (Р. Турнвальд209, В. Мюльман210).
Антропологический подход с самого начала социологи стали время от времени применять и к иным, неархаическим обществам (например, У. Томас вместе с Ф. Знанецким в их классической работе «Польский крестьянин в Европе и Америке»211). Поэтому для системного изучения с помощью антропологического инструментария цивилизаций все предпосылки налицо и все маршруты такого подхода уже приблизительно намечены.
Теоретически, видимо, можно наметить и иные подходы к изучению цивилизаций, но здесь допустимо остановиться на их перечислении. 13 различных, хотя и не исключающих, а скорее, дополняющих друг друга подходов уже достаточно, чтобы составить представление о качественном объеме возможных цивилизационных исследований.
Каждый из этих подходов можно сопрячь как с другими, параллельными, так и напрямую с областью «большого пространства». Геополитика в целом и социология пространства позволяют нам осуществлять подобные операции в случае каждого из концептов цивилизации. Пространственное выражение может иметь и субстанция, и процесс, и система, и структура, и язык, и религия, и культура, и бессознательное, и этнос, и Dasein, и все остальное. Совокупность подобных карт, соответствующих разным толкованиям цивилизаций, дадут преконцепту «большого пространства» огромный семантический качественный объем. Из предварительной апроксимации «большое пространство» в каждом конкретном случае превратится в полноценное и многомерное смысловое поле. Все это и подготовит последний этап — переход к тому, что К. Шмитт назвал «порядком больших пространств»212, а в нашем случае — к полноценному правовому оформлению Многополярного Мира.
Полюса многополярного мира / номенклатура цивилизаций
Хантингтон выделяет следующие цивилизации.
Бесспорные:
- Западная цивилизация,
- Православная (евразийская) цивилизация,
- Исламская цивилизация,
- Индуистская цивилизация,
- Китайская (конфуцианская) цивилизация,
- Японская цивилизация.
Потенциальные:
- Латиноамериканская цивилизация,
- Буддистская цивилизация,
- Африканская цивилизация.
Им-то и суждено в определенном историческом времени стать полюсами многополярного мира.
Западная цивилизация
Самой очевидной и часто претендующей на единственность и универсальность является западная цивилизация213. Она берет свое начало в греко-римском мире, а в Средневековье складывается окончательно в западной половине христианской Эйкумены. Сегодня она состоит из двух стратегических центров по обе стороны Атлантики: Северной Америки (в первую очередь США) и Западной Европы. В этой зоне сформировался Модерн и вся его цивилизационная аксиоматика. Здесь находится бесспорный и очевидный полюс нынешнего миропорядка. Это Хантингтон называет термином «the West», «Запад».
Но в картине множественности цивилизаций мы видим следующую особенность: Запад как цивилизация (одна из нескольких!) есть явление локальное, рядоположенное с другими цивилизациями, имеющими длительную историю, глубокие исторические корни и сегодня обладающими серьезным ресурсным, стратегическим, экономическим, политическим и демографическим потенциалом. Запад — это «большое пространство» среди других «больших пространств»214. Западная цивилизация является лидирующей, но «все остальные» (the Rest), если сложить их совокупный потенциал, в определенный момент могут бросить ему вызов и поставить его гегемонию под вопрос. Сам Хантингтон, естественно, этого не хочет, но он реалистично оценивает ситуацию, предполагая, что это в любом случае когда-то произойдет, и поэтому уже сейчас руководители западной цивилизации должны самым серьезным образом посмотреть в глаза тревожному и рискованному будущему, где вероятность столкновения со «всеми остальными» будет только возрастать — по мере развития мощи других цивилизаций.
Православная (евразийская) цивилизация
Православная (евразийская) цивилизация также имеет средиземноморское происхождение, но складывается на основании восточнохристианской традиции, продолжая геополитику Византийской империи. Уже более тысячи лет назад расхождения между западным и восточным христианством принимают критические формы, и эти две части христианской эйкумены следуют своими отличными и часто антагонистическими историческими путями. Ядром православной (евразийской) цивилизации является Россия, получившая, начиная с XV века, двойное историческое и геополитическое наследие — одновременно от покоренной османами Византии и от рухнувшей Золотой Орды, став синтезом восточнохристианской и степной (туранской) культур215.
Вся история отношений России с Западной Европой представляет собой конфликт вокруг линии цивилизационного разлома, прочерченного между православием и западным христианством (католичеством и протестантизмом). Позднее (с эпохи Петра) это противостояние приобретает характер противоречия национальных интересов, еще позднее (в XX веке) выражается в конфликте мирового капитализма и мирового социализма. И хотя эта последняя версия ушла в прошлое, цивилизационная идентичность России и других православных (по своей истории и культуре) обществ предопределяет существенное отличие от западных критериев, что легко выливается в конфликт интересов и при определенных обстоятельствах в вероятность столкновения. Православная (евразийская) цивилизация с ядром в России имеет все основания на то, чтобы претендовать на роль одного из полюсов многополярного мира. В современных условиях у России едва ли хватит потенциала для единоличного противостояния Западу, поэтому возврат к двухполярной системе и невозможен. Но в контексте многополярности эта цивилизация вполне могла бы стать важнейшим и в определенных ситуациях решающим фактором мирового баланса сил. Особенно это стало заметно с 2000 года, когда Москва стала понемногу укреплять свои позиции на международной арене, преодолев хаос 1990-х.
Исламская цивилизация
Исламская цивилизация представляет собой еще одну мировую силу. Сегодня мусульмане разделены границами национальных Государств, но есть пункты, по которым представители исламской цивилизации в целом солидарны между собой по ту сторону национальных границ. По мере модернизации исламских обществ и укрепления их экономического, политического и военно-стратегического потенциала исламские элиты и интеллектуальные круги все отчетливее осознают различия в ценностных системах между исламским миром и западной цивилизацией, что вызывает постоянно растущие антизападные настроения. Атака исламских террористических групп «Аль-Каиды» на башни Всемирного Торгового Центра 9 сентября 2011 года демонстрирует, до какой степени ожесточения этот конфликт способен дойти. По ряду параметров исламская цивилизация вполне может претендовать на статус самостоятельного полюса многополярного мира.
Китайская цивилизация
Не менее очевидны культурные особенности китайской (конфуцианской) цивилизации. Китайское общество объединено не столько религией, сколько общностью этической культуры, сходством социальных установок и множеством иных этических, духовных, философских и психологических черт. Китайцы живо осознают свою цивилизационную особенность и способны сохранять верность культурному типу, даже проживая в среде иных, некитайских, обществ. Успешно осваивая западные технологии, китайцы сохраняют свою культурную идентичность почти неприкосновенной. Западный индивидуализм, гедонизм, рационализм и т. д. не проникают глубоко в китайское общество. Сохранение в Китайской Народной Республике коммунистического правления только подчеркивает особость китайского пути. Внушительная демография китайского населения представляет собой огромный политический и экономический ресурс, а выдающиеся успехи китайской экономики давно превратили Китай в серьезного экономического конкурента странам Запада.
Индуистская цивилизация
Не меньшим, чем у Китая, демографическим потенциалом обладает и Индия. Очевидно, что это не просто Государство, но именно цивилизация, с многотысячелетней историей и особыми философскими и ценностными установками, существенно отличающимися от нормативов современного Запада. Модернизация Индии приводит к определенным изменениям в социальной структуре этой страны, но по мере технического развития растет и осознание индусами собственной цивилизационной идентичности (хиндутва216). Индуистская цивилизация не агрессивна и созерцательна по своим корням, но при этом чрезвычайно консервативна и устойчива и перед лицом альтернативных цивилизационных кодов (ислам, вестернизация и т. д.) способна проявлять определенную жесткость. Экономический рост Индии в последние годы также делает ее вполне состоятельным претендентом на роль полюса многополярного мира. У Индии есть своя стратегия, распространяющаяся на ряд ключевых зон субконтинента, граничащих с Индией, на определенный сектор Индийского океана и на расположенные там островные Государства.
Японская цивилизация
Японская цивилизация, несмотря на то, что из всех незападных стран Япония после Второй мировой войны глубже всех интегрирована в зону «глобального Запада», представляет собой уникальное явление с самобытной культурной традицией. Огромный экономический потенциал Японии и специфика японской социальной психологии еще в начале 1990-х годов приводили ряд американских аналитиков к мысли о возможном столкновении Запада с Японией217. В последние два десятилетия экономический рост Японии заметно замедлился, а ее политические амбиции в региональной политике, не говоря уже о глобальной, существенно сократились. Тем не менее, учитывая прошлый исторический опыт и огромный потенциал японского общества, нельзя исключить того, что в определенный момент Япония станет наряду с Китаем одной из ведущих цивилизационных сил — как минимум, в Тихоокеанском регионе. Она и сейчас является таковым, но, правда, представляя стратегические интересы США, в том числе и в вопросе уравновешивания растущей мощи Китая. В условиях многополярности эта «прозападная» функция Японии может измениться.
Латиноамериканская цивилизация
Латиноамериканская цивилизация является постколониальной зоной, политически организованной европейцами. Но исторические связи с католическими и консервативными культурами Испании и Португалии, а также значительный процент сохранившегося автохтонного населения стали причиной того, что культура стран Южной Америки существенно отличается от культуры Северной Америки (где преобладали англосаксонские протестантские влияния и местные индейские племена были почти полностью истреблены). Религиозные, культурные, этносоциологические и психологические отличия латиноамериканцев могут служить предпосылкой для того, чтобы население Южной Америки осознало свое историческое своеобразие и стало самостоятельным полюсом — с собственной повесткой дня и стратегическими интересами.
В этом направлении на разных уровнях уже сегодня начинают двигаться разные латиноамериканские страны — от Венесуэлы и Боливии до сделавшей в последние годы мощный бросок вперед Бразилии. Совокупно страны Латинской Америки обладают значительным демографическим, ресурсным, экономическим, политическим потенциалом и вполне могут при определенных обстоятельствах стать полюсом многополярного мира.
Африканская цивилизация
Остальные цивилизации могут рассматриваться лишь как далекие кандидаты на статус полюсов многополярного мира.
Африканская цивилизация как пространство, подлежащее интеграции в самостоятельный полюс многополярного мира, существует в форме умозрительного проекта. Народы Транссахарской Африки чрезвычайно разрозненны и объединены в национальные Государства по строго колониальному признаку. У них нет никакой общей культурной идентичности или цивилизационной системы. Теоретически, на основании расовых, пространственных, геополитических, экономических и социологических особенностей, в какой-то момент народы Африки могли бы осознать (точнее, сконструировать) свое единство. Такие проекты существуют — например, проект Соединенные Штаты Африки (Кваме Нкрума, Абдулай Ваде, Муаммар Каддафи218), Организация Африканского Единства, Панафриканское экономическое сообщество и т. д. Совокупность населения и территория делают эту теоретическую конструкцию весьма внушительной (третье место по демографии и первое по объему занимаемого пространства в мире).
Но для того чтобы эта зона превратилась в самостоятельный полюс, должно пройти, видимо, довольно много времени.
Буддистская цивилизация
Буддистская цивилизация также представляется туманной и размытой. К ней относятся разные страны, которые отличаются по ряду культурных и социальных признаков от соседних с ними исламской и индуистской цивилизаций. Буддизм распространен в Китае и Японии, однако, эти страны могут претендовать на то, чтобы выступать в качестве самостоятельных полюсов. Поэтому консолидация буддистского пространства, четко отличного от ареала китайского или японского влияния, вряд ли может состояться в ближайшей перспективе. Можно считать «буддистскую цивилизацию» резервной зоной в Тихоокеанском регионе.
Карта потенциального многополярного мира
Таким образом, простой перечень цивилизаций и довольно оформленных и пока еще весьма приблизительных позволяет придать ТММ конкретный характер. Мы получаем дифференцированную структуру потенциальной карты многополярного мира.
Мы видим на ней:
- западную цивилизацию, сегодня претендующую на универсализм и гегемонию, но на самом деле представляющую собой лишь цивилизацию среди многих, а значит, и ее гегемония и ее универсализм имеют строго определенные географические границы и вполне конкретное историческое содержание (и пространственные и временные границы могут быть сдвинуты в любом направлении — это как раз зависит от межцивилизационного баланса);
- православную (евразийскую) цивилизацию, чьи приблизительные границы включают в себя пространство СНГ и часть Восточной и Южной Европы (это территория неоднократно выступала в истории как главный или, по меньшей мере, основательный конкурент для западной цивилизации — вплоть до недавнего прямого дуализма Восток–Запад в системе двухполярного мира);
- исламскую цивилизацию, пространственно охватывающую Северную Африку, центральную Азию и ряд тихоокеанских стран (где сосредоточен огромный демографический потенциал и критически важный объем полезного сырья, в том числе энергоресурсов);
- китайскую цивилизацию, включающую в себя не только Тайвань, но и обширную зону в Тихоокеанском регионе, на которую распространяется китайское влияние (и которая имеет определенные основания для того, чтобы стать еще более обширной с учетом китайской демографии и темпов экономического роста);
- индуистскую цивилизацию (куда кроме собственно Индии можно отнести Непал и Маврикий в Африке, где более 50 % населения исповедует индуизм);
- латиноамериканскую цивилизацию, объединенную связью с испано-португальскими обществами Европы, католической религией, относительной общностью смешанной европейско-индейско-африканской культуры (сюда можно включить как страны Южной Америки, так и Центральной Америки вплоть до Мексики на самом севере этого региона);
- японскую цивилизацию, сегодня пребывающую в анабиозе, но исторически имевшую (обоснованные, с точки зрения силового потенциала) претензии на установление во всем Тихоокеанском регионе «японского порядка».
Контуры этих цивилизаций ясно различимы на карте и проступают по целому ряду важных вопросов сквозь границы национальных Государств, дробящих соответствующие цивилизационные пространства.
Контуры трех других потенциальных цивилизаций видны не столь отчетливо. Африканская и буддистская цивилизации в качестве интегрированного полюса многополярного мира представляют собой сегодня, скорее всего, реалии далекого будущего.
Тем не менее мы имеем дело с готовым наброском миропорядка, радикально отличного от того, что является объектом теоретизаций подавляющего большинства парадигм МО — как позитивистских и классических, так и постмодернистских. Эта картина цивилизационных центров в системе многополярности есть схема возможного и даже вероятного будущего. В таком будущем количество акторов мировой политики будет строго больше одного и двух, но при этом их будет на порядок меньше, чем существующих на сегодняшний день национальных Государств.
Каждая из цивилизаций будет представлять собой полюс силы и центр локальной гегемонии, превосходящей потенциал всех своих составляющих (относящихся к данной цивилизации), но не обладающей достаточным могуществом, чтобы навязать свою волю соседним цивилизациям.
Многополярный порядок, таким образом, будет воспроизводить на ином уровне Вестфальскую систему — с ее суверенитетом, балансом сил, хаосом интернациональной среды, возможностями конфликтов и потенциалом мирных переговоров, но с той лишь принципиальной разницей, что акторами отныне будут не национальные Государства, нормативно представляемые по одинаковому образцу, скопированному с европейских капиталистических держав Нового времени, а цивилизации, имеющие совершенно самостоятельную внутреннюю структуру, соответствующую историческим традициям и культурным кодам.
Такой мир будет в полном смысле слова полицентричным, т. к. равенство цивилизаций на уровне международного порядка не будет предполагать идентичности их внутриполитического устройства. Каждая из цивилизаций получит, тем самым, право организовывать свои общества в соответствии со своими предпочтениями, ценностными системами и историческим опытом. В одних религия будет играть решающую роль, в других вполне могут преобладать секулярные принципы. В одних будет демократия, в других — совершенно иные политические формы правления, либо связанные с историческим опытом и культурными особенностями, либо избранные самими обществами в качестве оптимальных конструктивных проектов. В отличие от Вестфальской системы в такой модели мироустройства будет отсутствовать общепланетарная модель универсалистской гегемонии и общеобязательный паттерн. В каждой цивилизации смогут быть утверждены обобщающие системы ценностей, свойственные только данной цивилизации, включая представления о субъекте, объекте, времени, пространстве, политике, человеке, познании, цели и смысле истории, правах и обязанностях, социальных нормативах и т. д. Каждая цивилизация имеет свою философию, и незападные цивилизации, вполне естественно, будут опираться на свои, автохтонные, философские системы, возрождая их, совершенствуя, трансформируя или даже меняя на новые, но все это в условиях исключительной свободы и опоры на конкретное общество.
Цивилизации как конструкты
Здесь мы подходим к очень важному моменту. Многие критики Хантингтона выдвинули контраргументы, оспаривая само существование цивилизаций в современном мире или указывая на то, что глобализация, вестернизация и модернизация через определенный срок выравняют культурные и цивилизационные различия219. Вопрос об онтологии концепта цивилизации, таким образом, ставится ими на повестку дня со всей остротой.
Тот факт, что цивилизации существуют как объединяющий широкие сегменты обществ культурный и ценностный (иногда религиозный) фон, является эмпирическим фактом социологии и истории. Но достаточно ли этого, чтобы в нынешних условиях это единство было достаточно ясно осознано, мобилизовано и превратилось в сильную политическую идею, способную сделать цивилизации главными акторами в системе международных отношений?
Хантингтон приводит эмпирические наблюдения, настаивая на том, что такая онтология есть220 и что в нынешних условиях именно цивилизационная идентичность призвана сыграть решающую роль в развертывании основных процессов после конца двухполюсного мира и все возрастающих трудностей у США с тем, чтобы справиться с растяжением границ однополярного момента, а также на фоне глобализации, которая, параллельно с универсализацией определенных кодов и процедур, способствует одновременно возрождению локальных и религиозных идентичностей (Р. Робертсон и его «глокализация»221). Но это вопрос дискуссионный: сторонники цивилизационного подхода утверждают, что цивилизация является онтологически обоснованным концептом в области международных отношений222, противники же настаивают на том, что эта онтология сомнительна или ирреальна. Так как сам Хантингтон стоит на стороне Запада и является интегральной частью его интеллектуальной элиты, то его осмысление фактора цивилизаций идет с позиций Запада, и в самом факте наличия других цивилизаций, кроме Западной, и тем более в их вероятном усилении и становлении самостоятельными полюсами многополярного мира Хантингтон видит лишь угрозу. Он считает эту угрозу реальной и онтологически обоснованной. Поэтому его относят к пессимистам глобализации. И все же для него онтология концепта цивилизации — это оценка серьезности и реальности потенциального противника223.
Однако к этой проблеме можно подойти и с совершенно другой стороны, не в рамках реалистского подхода, которому по многим вопросам остается верен сам Хантингтон, но на основе конструктивистского метода и, шире, постпозитивистских теорий МО.
Для ТММ не столь важно, существуют ли цивилизации как акторы и полюса многополярного мира или нет, является ли их бытие доказанным и весомым фактором или слабой и турбулентной помехой на пути уверенного катка однополярности или западоцентричной глобализации. Цивилизация как актор международных отношений — это совсем не возврат к Премодерну, где фигурировали традиционные Государства и Империи. Цивилизации как актор международных отношений — это нечто совершенно новое, никогда не бывшее, это своего рода реальность Постмодерна, призванная заместить собой исчерпавший себя потенциал миропорядка, основанного на доминации Вестфальской системы, но Постмодерна альтернативного как однополярной американской империи, так и бесполярной глобализации.
Иными словами, в каком-то смысле цивилизацию следует рассматривать как конструкт, как специфический дискурс, как текст, который, однако, имеет структуру, принципиально отличную от однородного и «монотонного» западоцентричного дискурса. Цивилизация — это привнесение в реальность международных отношений качественного различия (differénce), когда человечество мыслится не как воспроизводство однотипной серии (презумпция гражданского общества или идеологии прав человека), но как набор несовозможных монад (по Лейбницу224), которые организуют несколько параллельных семантических и культурных Вселенных. Эти Вселенные сходятся в конфликте (как у Хантингтона), но совсем не обязательно, что только в нем. В той же мере вероятен и диалог цивилизаций225, на чем настаивал бывший президент Ирана Мухаммад Хатами226. Форма взаимодействия цивилизаций как акторов многополярной системы может быть любой — конфронтационной и мирной: практически в той же самой пропорции, как строятся отношения национальных Государств в Вестфальской системе. Но если национальное Государство и национальный суверенитет были конструктами Нового времени, то цивилизация вполне может стать конструктом Постмодерна, выражая таким образом радикальную плюральность дискурсов, не сводимых к общему знаменателю.
Координационный центр многополярности
Цивилизации суть то, что требуется создать. Однако этот процесс создания цивилизаций не предполагает целиком искусственной модели, полностью отсутствующей в реальности. Культурная, социологическая, историческая, ментальная, психологическая база для цивилизаций есть, и она эмпирически фиксируется227. Но переход от цивилизации как культурной и социологической данности к цивилизации как актору многополярного мира требует усилия. Это задание, которое может и призвана осуществить особая историческая инстанция.
Что это за инстанция? Можно условно и апроксимативно определить ее как политическую и интеллектуальную идеологическую элиту «всех остальных» (the Rest), т. е. совокупность государственных деятелей, интеллектуалов, представителей крупных монополий и религиозных структур, а также ведущих политических сил тех стран, которые по тем или иным причинам не согласны с однополярностью или западоцентричной глобализацией, являются сторонниками «модернизации без вестернизации» и видят будущее своих обществ только в рамках мироустройства, альтернативного ныне существующему.
Сам Хантингтон, повторяя А. Тойнби, говорит о паре «the West and the Rest», «Запад и все остальные», как о цивилизационных антагонистах228. Постепенно это расплывчатое «все остальные» (the Rest) приобретает зримые черты и фиксирует свою историческую программу в выработке ТММ.
Именно интеллектуальная элита незападного мира призвана сконструировать многополярность и, соответственно, превратить «цивилизацию» в действенный и содержательный концепт.
Границы цивилизаций
Очень важный вопрос заключается в том, как определить границы цивилизаций и, соответственно, как определить вероятные модели отношений между ними. Здесь можно рассматривать различные варианты, но несколько моментов являются заведомо очевидными.
Границы цивилизаций не могут являться и не являются строго фиксированными линиями, как в случае государственных границ, разделяющих между собой национальные Государства. Цивилизации отделены друг от друга в пространстве широкими полосами, на которых наличествует смешанная цивилизационная идентичность. Кроме того, внутри одной цивилизации могут быть достаточно большие анклавы или вкрапления иной цивилизации. Цивилизация относится к пространству радикально иначе, нежели национальное Государство к своей территории. Степень административного упорядочивания соотносится не столько с пространством, сколько с обществами, общинами и группами населения. Поэтому территориальный признак не является здесь столь же однозначным, как в случае определения принадлежности той или иной национальной территории.
Соответственно, у границ между цивилизациями должен быть качественно иной статус, нежели у границ между Государствами229. На границе между цивилизациями могут быть расположены целые автономные миры, самобытные и обособленные, составляющие совершенно специфические социальные структуры и культурные ансамбли. Для них следует разработать совершенно особую правовую модель, учитывающую особенности накладывающихся друг на друга цивилизаций, пропорции между ними, а также их качественное содержание и уровень интенсивности осознания собственной идентичности. В некоторых юридических школах различают понятие «граница» (в строгом смысле, как линия, отделяющая территорию одной страны от другой) и «фронтир» (как менее конкретная зона, находящаяся между одним типом пространства и другим). В первом случае это именно линия, не имеющая ширины, в другом случае — зона, полоса, нечто имеющее ширину. В этом контексте одну цивилизацию от другой отделяет именно «фронтир», межцивилизационная зона, которая может быть довольно широкой и расплывчатой, всякий раз специфической и отличающейся от социокультурного пространства, преобладающего по обе стороны «фронтира»230.
Практика многополярного мира: интеграция
Выяснив онтологический статус концепта «цивилизация», становится понятным направление основного вектора практики строительства многополярного мира. Речь идет об интеграции.
Интеграция становится осью многополярного миропорядка. Но эта интеграция в ТММ должна четко вписываться в цивилизационные рамки. Поэтому следует строго различить несколько типов интеграции:
- глобальную, не учитывающую цивилизационные особенности и протекающую на основе универсального протокола, за основу которого взята западная система норм, процедур и ценностей;
- гегемонистскую, приводящую к установлению иерархических диспропорциональных отношений у субъектов интеграции без учета культурных различий;
- цивилизационную, захватывающую только те страны и общества, которые имеют общую культурную составляющую и сходную социальнополитическую систему, а также общие исторические (и религиозные) корни.
ТММ настаивает на противодействии первым двум типам интеграции и на поощрении и активном проведении третьего типа интеграции.
Таким образом, мы получаем конкретный набор, состоящий из нескольких интеграционных зон, довольно неравнозначных по своему цивилизационному содержанию:
- западная интеграция (европейская и американская), а также евроатлантическая (здесь все обстоит успешно — есть военно-политический блок НАТО, есть Евросоюз, есть проекты интеграции всего североамериканского континента, включая введение североамериканской валюты — «амеро»);
- евразийская интеграция (ее ориентиром является Евразийский Союз, а этапами — интенсификация военно-стратегического сотрудничества в рамках ОДКБ, экономическое партнерство в рамках ЕврАзЭС, союзное Государство Россия–Белоруссия, проект Единого Экономического Пространства, с учетом Украины, частично — структуры СНГ);
- исламская интеграция (Исламская конференция, Исламский банк развития, единое шиитское пространство от Ирана, Ирака до Ливана, а также фундаменталистские проекты «нового халифата»);
- китайская интеграция (АСЕАН+Китай, вероятное поглощение Китаем Тайваня, введение «зоны золотого юаня»);
- индийская интеграция (усиление индийского влияния в юговосточной Азии, на Индийском субконтиненте, в Непале и в ряде стран Тихоокеанского бассейна, близких к Индии геополитически и культурно);
- японская интеграция (пока под вопросом и включает в себя рост влияния Японии на Дальнем Востоке);
- латиноамериканская интеграция (Латиноамериканская Ассоциация интеграции, Меркосур, Центральноамериканский общий рынок и т. д.);
- африканская интеграция (Организация Африканского единства, Соединенные Штаты Африки и т. д.).
Интеграция становится приоритетным процессом в организации многополярного порядка в международных отношениях.
Преконцепт: цивилизация и «большое пространство»
В ходе строительства многополярного мира в определенный момент со всей остротой встанет вопрос о переводе понятия «цивилизация» из социокультурной категории в правовое понятие. Здесь чрезвычайно важна концепция «большого пространства» («Grossraum»), разработанная немецким философом и юристом К. Шмиттом231. Значение идей К. Шмитта для сферы МО убедительно показал английский теоретик МО Ф. Петито232. К. Шмитт задается вопросом о том, каким образом происходит формирование международных нормативов, которые со временем приобретают статус общепризнанных правовых положений. Особенно его интересует становление такого явления, как Jus Publicum Europeum, заложившего основы европейской системы МО в Новое время. Шмитт стоит в целом на позициях реализма, и поэтому для него первостепенным вопросом является сама процедура соотнесения суверенитета национального Государства (над которым по определению не может быть никакой высшей инстанции) и выработки правил в области международных отношений, которым, тем не менее, национальные Государства вынуждены подчиняться. Обычно наличие институционального упорядочивания анархии международных отношений признают именно либералы, поэтому в некоторых классификациях их называют «институционалистами». В случае К. Шмитта мы имеем дело с убежденным реалистом, но, тем не менее, уделяющим пристальное внимание структурированию среды международных отношений. Отсюда парадоксальная характеристика его подхода: «институционалистский реализм»233.
Хаос и анархия в международных отношениях как базовые предпосылки реализма в МО, по Шмитту, регулируются не просто воззванием к общности либерально-демократических ценностей, торговой конкуренции и пацифизму, но специфически осознаваемым балансом сил, соотнесенным с конкретной географической ситуацией. Уделяя большое внимание геополитике, Шмитт настаивает на фиксации правовых норм в географическом пространстве234. В результате вся сфера МО оказывается соотнесенной с физической и политической картой. Хаос в МО приобретает тем самым пространственные черты и структурируется силовыми линиями баланса могуществ различных держав.
Так как Вестфальская система формально отказывается от признания какой бы то ни было легитимной и легальной реальности, превосходящей национальный суверенитет, пространственная нормативизация сферы международных отношений не получает и не может получить формально концептуализированного выражения. Тем не менее баланс сил подчас бывает устойчивым и очевидным настолько, что по своей сути вполне может сравниться с законом и, соответственно, быть зафиксированным в праве фиксации. Такой была судьба «доктрины Монро», Английского морского права, «доктрины Вильсона» или условий Версальского мира: доминирующие мировые державы отождествляли свои национальные интересы (подтвержденные силовым ресурсом) с нормативным положением дел даже в том случае, если речь шла о процессах, протекающих не просто за пределами их непосредственных границ, но на критически далеком от них расстоянии235.
Шмитт детально анализирует процесс этой тонкой работы, приводящей на последнем этапе к появлению наднациональных правовых структур, имеющих различную степень обязательности и до определенной степени концептуально конфликтующих с общепризнанной Вестфальской системой национальных суверенитетов. Для этого анализа К. Шмитт вводит технический термин «преконцепт» («предпонятие») как некую политическую идею, имеющую наднациональный масштаб и пока еще не закрепленную в правовых уложениях, но при определенных обстоятельствах и конкретном состоянии баланса сил способную обрести легальный статус.
Далее, Шмитт соотносит «преконцепт» (например, «доктрину Монро» или «немецкий Рейх») с пространственными границами, к которым этот преконцепт может быть применим. В результате рождается новая форма — «большое пространство» (Grossraum), являющееся одной из важнейших составляющих политической теории К. Шмитта.
«Большое пространство» — это пространственное выражение правового преконцепта в области МО.
Если мы применим эту процедуру к нашему понятию «цивилизация», то обнаружим, что она идеально подходит к ТММ. Многополярность, как, впрочем, и двуполярность или однополярность, не является правовым понятием и не может стать таковым в ближайшем будущем или вообще когда-либо. Это описание фактического баланса сил среди ведущих мировых акторов. Следовательно, и «цивилизация» и «многополярный уклад» имеют статус правовых преконцептов: они существуют, они могут быть силовым и ресурсным образом подтверждены, они могут быть декларированы, они могут быть действенны и реальны. При определенных обстоятельствах они даже могут сменить Вестфальскую модель, и тогда будет закономерно поставить вопрос о формальном отказе от национального суверенитета, перенеся это понятие на иную инстанцию — на саму цивилизацию или полюс многополярного мира. В этом случае преконцепт станет просто концептом и правовым понятием.
Но события могут развертываться и по другой логике: в этом случае цивилизация и многополярность останутся в состоянии преконцепта на неопределенно долгий срок (подобно тому, как двухполярность не упразднила национального суверенитета, хотя и сделала его относительным для всех тех стран, которые не обладали статусом сверхдержавы).
А когда мы попытаемся начертить границы цивилизаций, то столкнемся напрямую с «большим пространством» — понятием, очень удобным в силу его преконцептуального статуса для фиксации пространственной локализации цивилизации.
Многополярный мир, основанный на балансе сил составляющих его цивилизаций, можно будет назвать вслед за К. Шмиттом «порядком больших пространств»236.
«Политейя» в Теории Многополярного Мира
Актором международных отношений в ТММ выступают цивилизации. Мы видели, что понимание цивилизаций может быть чрезвычайно разнообразным; при этом разные варианты не исключают, а дополняют друг друга. Такое разнообразие существенно обогащает концепт, делает его чрезвычайно содержательным, что дает возможность плюральных толкований цивилизационной идентичности, чьи пропорции, акценты и границы могут меняться, уточняться и варьироваться. Но для того, чтобы перейти на уровень теории, этот концептуальный плюрализм должен быть сведен к более упрощенной редукционистской системе. Здесь важнейшим инструментальным концептом является «большое пространство» (Grossraum), рассмотренное в «Геополитике многополярного мира». «Большое пространство», в отличие от цивилизации представляющее собой принципиально неполитическое явление, можно рассматривать уже как политический преконцепт, подводящий вплотную к оформлению политического измерения ТММ. И здесь мы подходим к очень важной проблеме: каким политическим статусом будут обладать полюса многополярного мира (= цивилизации) в этой теории? И соответственно, на какой основе будет строиться правовая база международных отношений?
Здесь мы вынуждены напрямую ответить на очень деликатный вопрос, имеющий как чисто теоретическое, так и психологическое значение: будут ли полюса многополярного мира Государствами? Если да, то какими? Если нет, то чем они будут?
Для того чтобы ответить на эти вопросы и приблизиться к выработке формального политического концепта, завершающего построение ТММ (по крайней мере, на первом этапе), следует дать краткий обзор того, что понимается под «Государством» в современной политической науке.
На исторической шкале принято разделять все Государства на два типа: предсовременное Государство (Pre-Modern State) и современное Государство (Modern State). Это принципиально разные концепты, обладающие собственным набором признаков. Предсовременные Государства достигают своей обобщающей кульминации в Империи, которая предполагает сочетание высшей центральной власти в едином центре с широким распределением полномочий в пользу политических образований более низкого уровня — провинции, колонии, полуавтономные царства и т. д. К другому типу предсовременного Государства относится древний полис, город-государство как небольшая автономная единица, обладающая относительной независимостью от других аналогичных сил и представляющая собой властный центр для прилегающих (сельских) территорий. Предсовременные Государства могут быть самыми разнообразными с точки зрения политической власти, которую Аристотель систематизировал в трех парах, первый член которых рассматривался как позитивная версия правления, второй — как негативная, ущербная и пейоративная:
- монархия — тирания;
- аристократия — олигархия;
- полития — демократия.
Большие территории предполагают больше централизации (монархия), малые могут управляться в режиме прямого народоправления (политии). То есть Империя или город-государство как версии предсовременных Государств мы относим именно к Премодерну не на основании политической системы, в них преобладающей. Это важно.
Главными критериями предсовременного Государства в его отличии от Государства современного являются:
1) наличие у предсовременного Государства сверхрациональной миссии и мифических истоков;
2) наличие в основании распределения власти сословного общества;
3) наличие коллективной идентичности (кастовой, сословной, этнической, конфессиональной и т. д.) как социальной основы политического организма.
Современное Государство отличается от традиционного именно в этих трех пунктах. Оно:
1) совершенно рационально, руководствуется расчетом и национальными интересами, а создано на основании социального договора;
2) предполагает равенство всех граждан перед законом и отсутствие строго определенных привилегий на власть у какой бы то ни было социальной группы;
3) основано на индивидуальном гражданстве, т. е. отрицает на правовом уровне какую бы то ни было коллективную идентичность.
Современное Государство принято называть «национальным Государством» или «Государством-Нацией» (Etat-Nation).
Сегодня в международных отношениях нормативным является только «национальное Государство», которое считается единственным легитимным паттерном.
В отношении природы и структуры современного национального Государства в политической науке ведутся жаркие дискуссии, но базовым для большинства ученых остается анализ Государства социологом М. Вебером и плеядой его современных последователей, называемых иногда «неовеберианцами» (М. Манн, Т. Скокпол, Ч. Тилли и т. д.).
Веберовская традиция определяет Государство по 4 основным элементам237. Государство — это
1) дифференцированный набор институций и персонала, воплощающих в себе:
2) централизм, в том смысле, что политические отношения организованы как излучаемые изнутри вовне, покрывая собой
3) всю территориально фиксированную зону, над которой
4) обладает монополией на установление правил властвования, подтвержденной монополией на использование средств физического насилия.
Эта веберовская модель социологии Государства дает точное описание его с позиции форм и предполагает определенную степень ее автономии (учение об абсолютном суверенитете лежит в основании такой модели как имплицитная аксиома). Марксисты вносят в эту картину дополнительный социальный аспект, настаивая на том, что огромную роль играют классовые отношения, тяготеющие к тому, чтобы выйти за национальные границы (классовая солидарность международной буржуазии и интернациональный характер пролетариата). Но даже если не признавать учение о классовой борьбе, марксистский анализ уделяет повышенное внимание социальной стороне, гражданскому обществу, которое не имеет прямого отношения к Государству как политической форме, но, тем не менее, оказывает на политику значительное (подчас решающее) влияние. Это подробно разбирал А. Грамши и продолжают современные грамшисты (как левые, так и правые). Грамши помещает «гражданское общество» в надстройку и строго отделяет его от сферы политического (то есть от Государства). Если в политике (государстве) мы имеем дело с прямой властью, оформленной правовым образом и признанной функционально (Potestas Directa Карла Шмитта), то в обществе мы имеем дело с тем, что Грамши называет «гегемонией», т. е. такой формой установления иерархических и властных отношений, которые не осознаются как таковые теми, кому они навязываются. Можно соотнести гегемонию в понимании Грамши с Potestas Indirecta у К. Шмитта. Гегемония не осознается как власть теми, на кого она воздействует, не признается легально и не имеет вообще никакого правового статуса. Коммунист Грамши считает, что в буржуазном обществе буржуазия обладает не только политической властью с помощью буржуазного Государства и его аппарата, но и гегемонией, воплощенной в образовании, педагогике, науке, культуре, философии, искусстве и других формах гражданского общества, где неявно доминируют носители буржуазного сознания, подкрепляющие и легитимизирующие интеллектуально политическую доминацию капиталистов. Значение фактора «гегемонии» в понимании Грамши существенно дополняет веберовское определение Государства дополнительным — социальным — измерением. Значение роли гражданского общества и разных вариантов Potestas Indirecta охотно признают и даже идеологически используют многие либералы, транснационалисты и даже «новые правые» (А. де Бенуа).
И наконец, еще один важный концептуальный ход в понимании природы Государства делают представители неореализма в области Международных Отношений (в первую очередь М. Уолтц), которые предлагают рассматривать структуры национального Государства не «изнутри вовне», на чем зиждется классический веберовский анализ, а «извне внутрь», анализируя то, как общий баланс сил в мировой политике аффектирует не только внешнюю политику отдельных Государств, но отчасти и внутреннюю, заставляя национальные Государства адаптироваться — политически, экономически, социально, культурно и т. д. — к политической системе, сложившейся на международном уровне. Эту же тему развивают представители неовеберовского направления (М. Манн, Т. Скокпол и т. д.), дополняя геополитическими факторами и учетом «баланса сил» анализ собственно Государства.
Синтезом такого подхода является Английская школа Международных Отношений, и особенно ее направление, связанное с трудами Фреда Холидэя, положившего начало направлению «исторической социологии в МО». У представителей этого направления мы встречаем все три уровня в понимании Государства: веберовский (формальный), социологический (как грамшистский, так и либеральный / транснационалистский) и геополитический (учет глобальной системы баланса сил на мировом уровне).
Этот краткий обзор понимания современного Государства помогает нам подойти к ответу на поставленный ранее вопрос: можно ли рассматривать полюс многополярного мира, цивилизацию как базового актора в синтаксисе Государства?
Теперь можно попытаться встать на индуктивный путь исследования и нащупать те характеристики, которые должны были бы быть свойственны полюсам многополярного мира. Попробуем описать их интуитивно.
1. Полюс многополярного мира должен обладать суверенитетом. Но только перед лицом других полюсов. Это вытекает из практического требования обеспечить цивилизации свободу и независимость перед лицом других цивилизаций, основанных на альтернативных культурных кодах.
2. Центр власти в цивилизации должен быть легальным с формально правовой точки зрения.
3. Зона применения власти и, соответственно, область установки ею правил игры должны быть дифференцированы в зависимости от этнокультурного и конфессионального состава населения.
4. Территориальная модель управления строится на принципах федерализма и субсидиарности (Альтуссиус).
5. Идентичность интегрируемых в цивилизации единиц может быть вариативной — коллективной (преимущественно) и индивидуальной (в определенных случаях).
6. У политического образования должны быть и миссия (вытекающая из культурного кода цивилизации) и рациональные интересы (основанные на верифицируемой и прозрачной калькуляции).
7. Социальные страты (этноконфессиональные группы, классы и т. д.) должны быть транспарентно и легально представлены в структуре политического тела.
8. Необходим межцивилизационный совет как совещательный орган, устанавливающий (неабсолютные и не неизменные) правила межцивилизационного взаимодействия (не нарушающие принцип суверенитета цивилизаций) с учетом как принципа многополярности, так и силового баланса.
Теперь, если мы проанализируем этот набор интуитивных параметров, мы обнаружим, что, к нашему удивлению, такое сконструированное теоретически политическое тело, с одной стороны, оперирует с известными и теоретически обоснованными в других контекстах свойствами Политического, а с другой, не совпадает ни с одной из рассмотренных моделей — ни с предсовременным Государством, ни с современным национальным Государством, ни с транснационалистскими конструктами неолибералов, ни с марксистскими интернационалистскими проектами. Мы имеем дело с централизмом в понимании власти, суверенитета, легальности, но в то же время с плюрализмом в отношении социальной идентичности и территориальных полномочий, а кроме того, с высоким уровнем легализации того, что Грамши называет «гражданским обществом». Так, мы получили оригинальный концепт, который не может быть строго отождествлен ни с Государством (ни с Империей, ни с национальным Государством-Нацией), ни с обществом, ни с какой-то еще привычной моделью Политического, хотя все его составляющие, взятые по отдельности, оказываются нам знакомыми.
В определенном смысле мы имеем дело с описанием одной из версий политического Постмодерна.
Осталось подобрать имя для этой концепции. Мы предлагаем (как вариант) воспользоваться термином «политейя»238 в платоновском смысле (а не в узком смысле «положительной демократии», как его употреблял в «Политике» Аристотель, прибегавший в других случаях и к более широкому толкованию). Платоновскую «Политейю» (знаменитый диалог, в котором связно и системно излагается учение об идеях) переводят и как «государство», и как «Республику». Но тем не менее та реальность, о которой идет речь у самого Платона, и тот смысл, который вкладывали в этот термин греки того времени, не совпадает ни с нашим сегодняшним пониманием гоcударства, ни с тем, что понимали под Res Publica римляне (ни тем более что имеется в виду под «Республикой» в наше время). «Политейя» — это политическое образование любой размерности: от полноценного централизованного Государства до его отдельных частей (провинций, округов, сатрапий и даже совсем мелких сельских единиц или конфессиональных анклавов).
Этот термин иногда используется в политической науке, но чаще всего метафорически, не приобретая никакого строго закрепленного за ним концептуального денотата. Что мешает в таком случае закрепить в качестве такого денотата набор свойств, которым обладает полюс многополярного мира? Тем более что термин «политейя» не имеет строгой фиксации ни в политических теориях Модерна, ни в Премодерне. Политейя — это упорядоченное, организованное общество, причем таковым может быть как Империя, так и современное Государство, их отдельные части, а также общества разного калибра — от небольших общин до глобального общества. Теоретически мы можем применить ко всем ним термин «политейя», который не используется именно в силу его чрезмерной многозначности. Но та же самая полисемия, которая является причиной того, что этот термин не получил широкого применения в политологии, в случае теории многополярного мира является удивительным терминологическим преимуществом, вполне соответствующим самой структуре многополярности как комплексного явления. Политейя — это понятие, идеально подходящее для описания комплексного Политического, редукция которого в концепт требует включения большего числа параметров разной размерности, нежели в рутинной практике Модерна.
Государство — это политейя, но политейя — это не Государство, т. к. включает в себя и общество, и культуру, и даже геополитические единицы. Политейя в ТММ есть политическое оформление «большого пространства» и поэтому обладает с самого начала еще и геополитическим измерением, что позволяет прозрачно интегрировать в ТММ «геополитику многополярности».
Если мы зафиксируем термин «политейя» для полюса многополярного мира, то увидим еще одну лингвистическую параллель: при толковании значения греческого слова «πολιτεια» словари часто приводят в качестве наиболее близкого по смыслу концепта латинский термин «civitas», что дает нам именно цивилизацию. Но именно цивилизацию мы выделили в качестве главного актора международных отношений в ТММ. То есть поиск политического концепта для описания полюса многополярного мира завершился строго в той точке, с которой мы начали: мы снова пришли к понятию «цивилизации», но на сей раз уточнив его политическое выражение и его политическое содержание.
Теория Многополярного Мира и другие парадигмы МО
Релевантность реализма для ТММ
Цивилизация как базовый актор в МО и выстраиваемая на этом основании ТММ, после того как их оригинальность и отличие от существующих подходов в МО были отчетливо выявлены и прояснены, могут быть на новом уровне вновь соотнесены с существующими теориями — но уже не как производные, а как новая самостоятельная парадигма с другими, уже существующими парадигмами. Это сопоставление поможет нам как полнее обрисовать специфику ТММ и ее структуру, так и исследовать наиболее важный момент — выяснение того, как теоретически могут складываться отношения между цивилизациями, будет ли в них превалировать конфликт (как считал С. Хантингтон), либо диалог (как считают М. Хатами или Ф. Петито239).
Реализм для акторов цивилизаций. Реалистская парадигма, оперирующая с нормативами Вестфальской системы и выделяющая в качестве акторов национальные Государства, напрямую совершенно не применима для ТММ. Отличие в акторах предопределяет совершенно иное понимание среды международных отношений. Если мы примем реалистскую парадигму буквально, то увидим, что вместо карты цивилизаций и «больших пространств» перед нами будет политическая карта мира, где зоны цивилизаций поделены (подчас совершенно искусственно) на серии национальных Государств, а некоторые Государства представляют собой пересечение двух или более цивилизаций. Реалисты настаивают, что «Государство Государству — волк» или, на крайний случай, признают иерархические отношения гегемонии. Но такой подход блокирует любую попытку интеграции «больших пространств» на цивилизационной основе. Следовательно, в чистом виде реализм неприемлем и неприменим. Сторонники ТММ в таком случае логически оказываются в полемических отношениях с представителями классического реализма и неореализма.
Но если мы возьмем в качестве главных акторов международных отношений цивилизации, фиксированные в «больших пространствах», то мы получаем совершенно иную картину. В этом случае мы можем представить межцивилизационные отношения как прямую аналогию со структурой международной среды в реалистской парадигме. Здесь также следует постулировать хаос и анархию, но уже на новом уровне — как межцивилизационный хаос и межцивилизационную анархию.
Повторяя логику реалистов, можно сказать, что никакого надцивилизационного уровня в ТММ не существует и никакой универсальной шкалы ценностей, которая могла бы выступать в качестве общепризнанного норматива в отношениях между цивилизациями, быть просто не может. Цивилизационный многополярный подход предполагает совершенную уникальность каждой цивилизации, и найти общий знаменатель для них не представляется возможным. В этом суть многополярности как плюриверсума240. Каждая цивилизация сама формулирует и презентует свои понятия человека, общества, нормы, истины, знания, бытия, времени, пространства, Бога, мира, истории, политики и т. д. Поэтому диалог между цивилизациями возможен в той же степени, как и конфликт, но невозможен переход от нескольких цивилизаций к одной-единственной. Следовательно, на этом уровне ТММ может полностью заимствовать логику традиционных реалистов, отрицающую онтологию и устойчивость интернациональных институций и норм, но применить ее к совершенно новой среде — не межнациональной (межгосударственной), но межцивилизационной.
Изменение субъекта миропорядка означает изменение и его качественного содержания. Если реалисты полагали, что все Государства стремятся к оптимизации своих интересов и рационализации способов и механизмов их достижения, то в случае цивилизации такая редукционистская схема не работает. У цивилизаций могут быть совершенно разные цели и разная мотивация. Одни склонны к экспансии, другие — к максимализации материального могущества, третьи — к техническому развитию, четвертые — к созерцанию, пятые — к сохранению себя в изоляции, шестые — к активному диалогу с окружающим миром и обмену культурными формами. Здесь совершенно не подходит «разбавленный» (thin) подход к МО, т. к. цивилизации как субъекты настолько многомерны и уникальны, самобытны и особенны, что наличие «густого» (thick) подхода становится не просто желательным, но необходимым и обязательным. Моделирование профиля цивилизации всякий раз является уникальной задачей, а выявление общих свойств можно получить только a posteriori, и никак не a priori. Это второе ограничение реализма. Если реалисты понимают принципы «опоры на собственные силы» (self-help) и национальных интересов как общую линейку параметров, свойственную практически любому национальному Государству, то ТММ настаивает на том, что у цивилизаций номенклатура базовых мотиваций намного шире и объемнее, а также разнообразнее. Поэтому и хаос и анархия в межцивилизационной среде приобретают более сложную структуру: это не просто поле борьбы приблизительно одинаковых акторов с разным силовым потенциалом, но сходной системой интересов и целей, но многомерный и многослойный лабиринт, где действуют нелинейные закономерности, посторонние аттракторы и явления турбулентности. Составление карты межцивилизационной анархии является намного более сложным делом, чем анализ анархии в классическом реализме, и даже в неореализме.
Но с этими двумя фундаментальными поправками многие логические ходы реализма могут быть с успехом задействованы при развертывании ТММ.
В частности, наиболее важным заимствованием классического реализма может стать критика самой возможности надцивилизационных институтов. Неореализм с его тяготением к построению структурной системы, основанной на балансе сил, вполне может быть применен к многополярному миропорядку, который по своим основным параметрам также будет организован в соответствии с силовым потенциалом главных акторов (только в данном случае ими будут цивилизации). В определенном смысле цивилизации как полюса многополярного мира будут региональными гегемониями со всеми вытекающими из этого последствиями. При этом таких гегемоний должно быть заведомо больше трех. Неореалистские конструкции, приоритетно исследующие как раз гегемонистские модели, могут быть чрезвычайно полезны для построения ТММ. При этом оказавшиеся на периферии теории К. Уолтца об устойчивости двухполярной модели241, опровергнутые фактами 80–90-х годов ХХ века, снова могут быть введены в оборот при конструировании многополярной модели, которая будет поставлена на место двухполярной.
Релевантность либерализма для ТММ
Отдельные аспекты ТММ может заимствовать и в либеральной парадигме. Либерализм настаивает на том, что сходные политические режимы (хотя речь у либералов идет только о либеральных демократиях) склонны к интеграции, укреплению многоуровневых социокультурных, экономических и сетевых связей, а в перспективе и общих наднациональных институций. Культура политической демократии создает условия для преодоления национального эгоизма. Если отбросим типичное для западного универсализма, по сути «этноцентрическое» обращение к «демократии», то получим тезис: общества со сходными культурами склонны к интеграции и созданию наднациональных структур. Если мы применим это к зоне общей цивилизации, то окажемся на волне ТММ. Действительно, интеграционные процессы и создание надгосударственных структур на основе общей социокультурной матрицы протекают намного легче, чем в иных случаях. В рамках цивилизации не столько политический режим Государства (демократия), сколько культура (и часто религия) имеет значение. Поэтому отношения между Государствами с общей культурой (религией) строятся по совершенно иной логике, нежели между Государствами с разной культурой.
Общность культуры для ТММ есть необходимое условие для успешной интеграции в общее «большое пространство» и, соответственно, для создания самого полюса многополярного мира. Значение культурного фактора как не менее значимого, чем принцип суверенитета, сближает сторонников ТММ более с либералами, нежели с классическими реалистами, настаивающими на суверенитете именно национальных Государств без учета культурного фактора. (Исключение составляют К. Шмитт и иные «институциональные реалисты», в частности некоторые представители Английской школы в МО.) Но это сближение действительно только при условии замены признака «политического режима» (демократии) на признак принадлежности к общей культуре (религии).
Либеральная парадигма, и особенно неолиберализм и транснационализм, большое внимание уделяет процессам глобализации. У глобализации на практике есть несколько этапов. Вначале идет региональная глобализация, а затем и универсальная, планетарная. Для либералов в МО региональная глобализация есть лишь переходное состояние и предварительный этап общепланетарной глобализации, не имеющий в себе никакой особой ценности и лишь предуготовляющий искомый результат — наступление «глобального мира» и «конца истории».
ТММ, со своей стороны, поддерживает региональную глобализацию и интеграцию по той причине, что эти процессы на практике всегда проходят в границах какой-то одной конкретной цивилизации. Споры между странами Евросоюза о принятии Турции в эту наднациональную структуру ясно показывают, что даже у европейцев, игнорирующих какие бы то ни было религиозно-культурные стороны идентичности общества, ощущение чуждости турок вызывает серьезные опасения.
Но если для неолибералов и глобалистов это временные трудности, то сторонники ТММ, напротив, концептуализируют именно региональную интеграцию, которую рассматривают как самостоятельный и законченный процесс, ценный сам по себе и, более того, не предполагающий после своего завершения никаких иных интеграционных этапов. В соответствии с духом многополярности региональная интеграция мыслится не как ступень или фаза планетарной глобализации, но как автономный историко-политический, стратегический и социальный процесс, имеющий цель в самом себе. Интеграция должна закончиться по достижении естественных границ цивилизации. После этого наступит фаза уточнения пропорций и системы влияния в зонах «фронтира».
Региональная глобализация сближает сторонников ТММ с либералами в МО, а отношение к планетарной глобализации, напротив, разделяет.
Но если принять эти две фундаментальные поправки (культурное единство вместо политического режима и региональная глобализация вместо планетарной), то сторонники ТММ вполне могут заимствовать аргументацию у представителей либеральной теории в МО, особенно в тех случаях, когда надо опровергнуть тезисы реалистов, строго придерживающихся статоцентрического подхода.
Более того, либералы развили ряд тем, которые также релевантны для ТММ.
В первую очередь, это идея мира или зоны мира, которая является приоритетным центром внимания либерализма в МО242. Если мы посмотрим на исторические реалии, то заметим, что понятие «мира» сплошь и рядом связывалось с обязательным уточнением: какого именно мира? Мы знаем «Pax Romana», «Pax Turcica», «Pax Britannica», «Pax Russica», наконец, современный «Pax Americana». Такое словоупотребление термина «мир» с дополнением, проясняющим, чей это мир, кто ответственен за него и за сохранение порядка, весьма показательно. Если мы соотнесем это дополнение с цивилизациями, то получим многополярную теорию мира (в смысле Pax, peace), состоящую из нескольких зон, где будет царить мир, основанный всякий раз на конкретном цивилизационном принципе. Мы получаем:
Pax Atlantica (состоящий из Pax Americana и Pax Europea);
Pax Eurasiatica;
Pax Islamica;
Pax Sinica;
Pax Hindica;
Pax Nipponica;
Pax Latina.
И более отдаленные:
Pax Buddhistica;
Pax Africana.
Эти зоны цивилизационного мира (как отсутствия войны) и общей безопасности могут быть взяты в качестве базовых концептов многополярного пацифизма. Задача цивилизаций как акторов международных отношений — в первую очередь, сделать их зонами устойчивого мира, т. к. в противном случае они не смогут выступать консолидированно на общепланетарном уровне. При этом многополярный мир (Pax Multipolaris) должен иметь особую онтологию в контексте международных отношений: он предполагает одновременно наднациональный, надгосударственный уровень (а поэтому есть мир интернациональный и внешний по отношению к Государствам), но вместе с тем не «универсальный» и не «общепланетарный» (то есть внутренний — по отношению к цивилизациям).
Второй важный момент для ТММ заключается в неолиберальном концепте взаимозависимости и расширения номенклатуры акторов. Здесь также следует перенести все то, что говорится либералами относительно всего человечества, на уровень цивилизации. Цивилизация предполагает наличие социокультурной, геополитической и экономической зоны, где тесно переплетаются между собой структуры и общины, относящиеся к этой цивилизации, причем гораздо в большей степени, нежели в условиях разделения национальными границами. Цивилизационные сети сменяют в ТММ сети глобальные, но в остальном их функции остаются весьма сходными. В цивилизации переплетаются между собой различные уровни политико-социальных, экономических и культурных систем, образуя намного более сложную и нелинейную карту общества, нежели в классических буржуазных моделях политической нации. Это своего рода «цивилизационная турбулентность», требующая нелинейного подхода и детального описания каждого отдельного сегмента. В цивилизации взаимозависимость социальных групп и страт образует сложную игру множественных идентичностей, накладывающихся друг на друга, расходящихся и сходящихся в новых узлах. Общий цивилизационный код (например, религия) задает рамочные условия, но внутри этих границ может существовать значительная степень вариативности. Часть идентичностей может быть основана на традиции, но часть представлять собой новаторские конструкции, т. к. цивилизации в ТММ мыслятся живыми историческими организмами, находящимися в процессе постоянных трансформаций.
Так же как и в либерализме, ТММ признает за индивидуумами, относящимися к конкретной цивилизации, не нулевую степень компетенции в международных вопросах — по меньшей мере, в пределах цивилизации. Идентичность индивидуума здесь строго маркирована культурой, и в этой культуре индивидуум всегда может почерпнуть основополагающие знания, необходимые для того, чтобы сформулировать свою точку зрения по конкретному цивилизационному вопросу. Поэтому на индивидуальном уровне рядового члена общества в ТММ мы имеем, скорее, «искусного индивидуума» Дж. Розенау243, нежели λ-индивидуумов реалистов; только компетентность этого «искусного индивидуума» определяется не личным доступом к широкому спектру некодифицированной информации (как у транснационалистов и глобалистов), а принадлежностью к семантическому полю традиции.
Релевантность Английской школы в МО для ТММ
Английская школа в МО чрезвычайно продуктивна для построения социологии межцивилизационного взаимодействия. Представители этой школы рассматривали среду международных отношений как общество и, соответственно, приоритетно исследовали процедуры и протоколы социализации стран в сфере международных отношений, т. е. их интернациональную «социализацию». Тем самым они снабдили теоретиков МО арсеналом методов, предназначенных для углубленного исследования закономерностей взаимодействий акторов международных отношений между собой. В ТММ акторы меняются: вместо Государств ими становятся цивилизации. Вместе с этим меняется и структура среды международных отношений. Соответственно, методы Английской школы МО вполне могут быть взяты за основу для изучения межцивилизационного социума, ансамбля цивилизаций и структуры развертывающегося между ними диалога.
Тезис о «диалоге цивилизаций» приобретает в оптике Английской школы конкретное содержание: этот диалог может быть осмыслен как стратегия социализации, предполагающая динамику градиентных отношений, ритмы эксклюзий /инклюзий, попытки иерархизировать систему отношений, экспансию и отступления, протоколы войны и мира, баланс материального и духовного и т. д.
Цивилизации в многополярном мире будут представлять собой планетарное общество, так или иначе вынужденное признавать наряду с собой другого. Но в данном случае другим будет выступать не Государство, а цивилизация, отличная от данной. Как будет структурироваться образ другого, до какой степени он будет наделен отрицательными и пейоративными чертами, а в какой он может быть осмыслен в духе мирной конкуренции и партнерства, будет зависеть от множества приходящих факторов, предсказать которые заведомо невозможно. Но концептуальный инструментарий Английской школы теоретически прекрасно годится для того, чтобы строить на нем дальнейшие теории.
В качестве примера можно взять образ исламского мира на современном Западе. Определенная демонизация Ислама как цивилизации (особенно после «9 /11») стала на Западе характерным цивилизационным клише (причем независимо от того, о какой стране идет речь и на основании чего этот негативный образ формируется — на базе христианской идентичности или чистого секуляризма). Нечто аналогичное характерно и для американофобии и общей неприязни к Западу в самом исламском мире — и снова, независимо от того, о каком конкретно Государстве идет речь. Мы имеем дело с распределением социальных статусов и ролей на уровне международных отношений, а это в значительной степени и исследует приоритетно Английская школа в МО, ставя в центре внимания «общество Государств» и социальные аспекты их взаимодействия, взаимопризнания и взаимооценки.
Методы Английской школы будут приемлемы в ТММ, если мы вместо «общества Государств» будем исследовать «общество цивилизаций» и социологические процессы, в этом обществе протекающие.
Релевантность марксизма и неомарксизма для ТММ
Марксизм и неомарксизм в МО чрезвычайно полезен для ТММ как доктринальный арсенал критики универсализма западной цивилизации и ее претензий на моральное превосходство, основанное на факторе превосходства материального, технологического и финансового. Западная цивилизация в Новое время встала на путь капитализма и достигла на этом пути предельных горизонтов. Но материальное воплощение успеха в высоком уровне развития экономики и в эффективности рыночных процедур, а в последнее время и приоритетно развитого финансового сектора, может выступать в качестве решающего аргумента только в том случае, если мы согласимся признать капитал мерилом не только материальных, но и социальных, культурных и духовных ценностей. Это прекрасно показал М. Вебер, идентифицировав капитализм как выражение протестантской этики244, где вознаграждение человека при жизни богатством и успехом мыслится как прямое отражение его морального достоинства. Знак равенства между благополучием и моралью как отличительная черта западного общества Нового времени имеет таким образом религиозные и культурные истоки. Капитал и капитализм оказываются не просто эталоном силы, но и эталоном правды.
Марксизм в своих истоках бросает вызов такому подходу и, признавая мощь капитала, отказывает ему в праве морального превосходства. Этика марксизма организована прямо противоположным образом. Благим является труд и трудовой класс (пролетариат), который оказывается в условиях капитализма полностью порабощенным паразитическим классом буржуазии. «Богатый» для марксизма значит «плохой». Следовательно, материальное развитие или средоточие капитала в тех или иных странах не просто ничего не доказывают, но доказывают, что речь идет о самых несправедливых и, следовательно, дурных обществах, которые необходимо уничтожить.
В анализе МО эта марксистская этика приводит к моральной оценке «богатого Севера» и ядра капиталистической мирсистемы как историкогеографического и социального выражения мирового зла. Запад становится не образцом для подражания, вожделения и обетованной землей, где получены ответы на все вопросы, но цитаделью эксплуатации, лжи, насилия и несправедливости.
Не разделяя догматически всех выводов относительно мировой революции и мессианского предназначения пролетариата, ТММ принимает марксистский подход в оценке капиталистической природы Запада и солидаризуется с разоблачением капитализма как асимметричной модели эксплуатации и навязывания своих цивилизационных критериев (капитализм, свободный рынок, погоня за наживой, материализм, консьюмеризм и т. д.) всем остальным народам и обществам. Капитализм есть материальная экономическая сторона западного универсализма и западного колониализма. Принимая логику капитала, мы автоматически вынуждены будем рано или поздно признать Запад и его цивилизацию в качестве ориентира, образца для подражания и горизонта развития. Но это прямо противоположно идее многополярного мироустройства и ценностного плюрализма цивилизаций. Для одних цивилизаций материальное благополучие и капиталистические формы хозяйствования приемлемы и вожделенны, а для других, вполне возможно, что нет. Капитализм не обязательная и не единственная форма организации хозяйства. Он может быть как принят, так и отвергнут. Отождествление материального благополучия с моральным достоинством одни могут оправдать, а другие отбросить. Поэтому для ТММ антикапиталистический вектор марксизма и неомарксизма в МО, а также разоблачение эксплуатационных процедур, свойственных зависимому развитию245, является важной составляющей и вполне может быть принят на вооружение. То же самое справедливо и для критики «богатого Севера» и призыва к противостоянию ядру мир-системы. Без этого противостояния появление многополярного мира невозможно.
Главное отличие ТММ от неомарксизма и теории мир-системы (а также проектов А. Негри, М. Хардта и других альтерглобалистов) состоит в том, что ТММ категорически не признает исторического фатализма марксистских теорий, настаивающих на том, что капитализм является общеобязательной и универсальной фазой исторического развития, за которой столь же фатально и неотменимо должна последовать пролетарская революция. Для ТММ капитализм есть эмпирически фиксируемая форма развития западноевропейской цивилизации, выросшая из корней западноевропейской культуры и обретшая сегодня почти планетарный размах. Но глубинный анализ капитализма в незападных обществах показывает, что он имеет в них сплошь и рядом имитационный и поверхностный характер, наделен иными смысловыми характеристиками и представляет собой всякий раз нечто особое и весьма отличное от социально-экономической формации, возобладавшей на современном Западе. Капитализм возник на Западе, там он может либо развиваться дальше, либо погибнуть. Но его экспансия за пределы западного мира, хотя и обусловлена стремлением капитала к росту, совершенно не оправданна с точки зрения тех незападных обществ, на которые она проецируется. У каждой цивилизации может быть свое время, свое представление об истории, свое видение хозяйства и логики материального развития. Капитализм вторгается в незападные цивилизации как продолжение колониальной практики, а следовательно, может и должен быть отброшен, отражен — как агрессия чуждой культуры или чуждой цивилизации. Поэтому ТММ настаивает на том, чтобы борьба с «богатым Севером» шла сегодня от лица всех субъектов политической карты человечества, и особенно от лица стран «второго мира» (полупериферии по И. Валлерстайну). Многополярный мир должен наступить не «после либерализма»246 (как считают неомарксисты), а вместо либерализма. Поэтому борьба с либерализмом должна идти не во имя того, что придет ему на смену после того, как он утвердится в планетарном масштабе, а уже сегодня, чтобы в планетарном масштабе он вообще никогда бы не утвердился. Незападным цивилизациям необязательно проходить капиталистическую фазу развития. Равно как не надо и мобилизовать свое население для пролетарской революции. Элиты и массы стран «полупериферии» вопреки неомарксистам вовсе не обязаны социально разделиться и интегрироваться в два интернациональных класса — мировую буржуазию и мировой пролетариат, утратив все свои цивилизационные признаки. Напротив, элитам и массам, принадлежащим к одной и той же цивилизации, необходимо осознать свою общую цивилизационную идентичность, значение которой должно быть более весомо, чем значение идентичности классовой. Если относительно интернациональной солидарности буржуазии и (в меньшей степени) пролетариев марксисты отчасти правы (ведь речь идет о капиталистических обществах и буржуазных Государствах, где, действительно, доминирует логика капитала), то обращение к какой-то иной, незападной цивилизации качественно меняет все дело. Верхи и низы, например, исламского мира, гораздо острее осознают свою общую принадлежность к исламской культуре, чем свою классовую близость к верхам и низам других цивилизаций — в частности, западной. И это единство надо не размывать и раскачивать (как либеральным космополитизмом, так и неомарксистским или анархистским классовым интернационализмом), но укреплять, развивать и поддерживать.
Многополярный мир, особенно на первом антигегемонистском этапе своего становления, должен строиться на солидарности всех цивилизаций в их противостоянии колониальной и глобалистской практике «богатого Севера». И эта борьба должна сплотить элиты и массы внутри самих цивилизаций, тем более что применение к ним чисто классового критерия (элиты как буржуазия, массы как пролетариат) является проекцией западного гегемонистского подхода. В незападных цивилизациях эмпирически, безусловно, есть высшие и низшие социологические страты, но их социологическая и культурная семантика качественно отличается от редукционистской модели, где главным и единственным критерием является отношение к собственности на средства производства. Поэтому ТММ апеллирует к цивилизационной солидарности элит и масс в общем строительстве полюса многополярного мира и организации «большого пространства» в соответствии с историческими и культурными особенностями каждого отдельного общества.
Релевантность критической теории для ТММ
Чрезвычайно продуктивны для ТММ постпозитивистские теории МО.
Критическая теория в МО может быть задействована практически полностью для денонсации западной гегемонии. Критика западоцентричных претензий, глобального капитализма, либеральной глобализации и однополярного мира в этой теории соответствует основным установкам ТММ и является необходимой ее частью. Без ясного осознания гегемонистской природы нынешней системы международных отношений и ее сущностной однополярности (как бы она ни выражалась — прямо, косвенно или завуалированно) не может быть обоснована потребность в альтернативе. ТММ в своих истоках представляет собой радикальную альтернативу именно существующей гегемонии. Поэтому тщательное и детальное описание ее структуры, методов ее укрепления и сокрытия ее сущности, а также ее разоблачение является важнейшей составляющей ТММ. Критическая теория в МО (в первую очередь Р. Кокс247) представляет собой образец такой фронтальной атаки, основные моменты которой можно полностью интегрировать в ТММ. Это же касается и структуралистского и лингвистического анализа гегемонии248.
Вытекающая из критики гегемонии концепция контргегемонистского блока также может быть взята на вооружение ТММ. При этом концепт контргегемонистского блока приобретает в ТММ более конкретные и систематизированные черты, нежели в инерциально марксистской критической теории. Контргегемонистский блок в ТММ представляет собой совокупность тех сил во всех существующих на сегодняшний день цивилизациях, которые осознают условия нынешней гегемонии как неприемлемые и не удовлетворяющие интересы народов и обществ. Ядром контргегемонистского блока должны стать авангардные интеллектуалы, представляющие основные цивилизации, претендующие на то, чтобы быть полноценными полюсами, в чем условия нынешней гегемонии им a priori жестко отказывают: православной (евразийской), исламской, китайской, индийской, латиноамериканской (а также буддистской, японской и африканской). В границах самой западной цивилизации также вполне могут объявиться представители интеллектуальных кругов, осознающих западную цивилизацию (американскую и европейскую) как локальные и региональные и предпочитающих ограничить зону их распространения историческими пределами (например, сторонников американского изоляционизма или проекта «крепость-Европа»). На втором уровне к ядру этого контргегемонистского блока можно было бы отнести и все те силы, которые противостоят глобализации и однополярности по каким-то иным, например, классовым, этическим, культурным, религиозным или идеологическим основаниям. Но если мы учтем, что при построении контргегемонистского блока сторонники многополярного мира, целое семейство интеллектуалов и теоретиков, будут опираться на гигантский потенциал своих цивилизаций, а не просто на моральное отвержение гегемонии, этот блок мгновенно превратится в нечто намного более серьезное, нежели можно себе представить, если учитывать только впечатление от текстов и предложений западных теоретиков, как правило, представляющих нонконформистские и маргинальные круги. Диалог с контргегемонистами всех типов, принадлежащими ко всем группам и культурным зонам, безусловно, чрезвычайно важен, но приоритетной является консолидация именно представителей мощных и состоятельных в региональном масштабе цивилизационных сил.
Только в сочетании с ТММ критическая теория превращается из благородной интеллектуальной игры и морально героической позиции в серьезную и внушительную политическую силу.
Релевантность постмодернистской теории
для ТММНе менее важно направление постмодернизма в МО — в первую очередь, для систематической деконструкции властного дискурса, с помощью которого западная гегемония преподносит себя как нечто естественное, безальтернативное и единственно возможное. Вся структура теоретизации поля международных отношений в западной политической науке, не говоря уже о политических дискурсах по поводу международных вопросов западных политиков, представляет собой хорошо организованное поле «самосбывающихся пророчеств» (selffulfilled prophecies), «теорий для решения проблем» (solving problems theories) и «выдавания желаемого за действительное» (wishfull thinking). Теории МО и глобальный дискурс западных лидеров есть своего рода «нейролингвистическое программирование», призванное навязать через текст249 человечеству тот образ реальности, который организован всегда в пользу удовлетворения интересов западной элиты. Знание, подчеркивают постмодернисты в МО, не может быть объективным и нейтральным. И разоблачение того, кому и чему служат те или иные теории, составляет уникальный и чрезвычайно полезный инструмент деконструкции МО в самых разнообразных теоретических изданиях250.
Иногда эту деятельность называют «субверсивной» («подрывной), т. к. она помогает увидеть натяжки, фигуры умолчания и двойные стандарты, которыми полны теоретические тексты и тем более политические декларации, описывающие логику процессов в международных отношениях и тем самым их предопределяющую. В целом постмодернисты ведут ту же линию, что и представители критической теории, разоблачая и выставляя напоказ гегемонистскую природу Запада и его «тоталитарный» дискурс, призванный навязать свои интересы и ценности всем остальным обществам251. При том, что население Запада составляет несопоставимо меньшую часть человечества и его культура не является самой древней или совершенной (если к культуре вообще можно применить оценочную шкалу).
Постмодернизм в МО чрезвычайно полезен для ТММ еще и в смысле избавления от предрассудков «эмпиризма», «верификации», «статической достоверности», «материальной наглядности» и т. д., характерных для остатков преодоленной веры эпохи Модерна в самостоятельную онтологию объекта. На уровне философии науки и социологии идея того, что критерием научности является верифицируемость факта на практике, давно была отвергнута и заменена иными, более тонкими критериями, в частности, фальсификационизмом (К. Поппер, И. Лакатос), т. е. признанием научной той гипотезы, которую можно опровергнуть на основе рациональной системы доказательств. Другие эпистемологи говорили о «смене парадигм» (Т. Кун) или о «пролиферации гипотез» (П. Фейерабенд) как главных признаках научности. В МО эти философские разработки внедряются с опозданием, но постмодернисты восполняют этот недостаток, приводя саморефлексию специалистов в МО к должному уровню252. В постмодернистской эпистемологии нет фактов, объектов или субъектов. Есть только процессы, алеаторные коды, структуры, сети, гибриды (Б. Латур) или ризомы (Ж. Делез). И все они могут организовываться либо вокруг оси воли к власти, либо расслабиться и быть предоставленными сами себе.
Вот здесь можно наметить одно качественное различие между постмодернизмом в МО и ТММ. Пока речь идет о критике западной гегемонии и воли к власти Запада с разоблачением структур доминирования и установления неравенства на уровне дискурса и теоретизирования (письма), обе теории идут рука об руку. ТММ полностью признает арсенал постмодернистской критики и заимствует из него базовые методы деконструкции. Деконструкция гегемонии полностью принимается. Различия начинаются там, где постмодернисты выдвигают свой альтернативный проект. Он чаще всего сводится к требованию отказа от «воли к власти» вообще, от любой иерархии и к обращению к всеобщему расслабленному хаосу, где полностью угасает и стирается любая иерархическая геометрия бытия, знаний, социума, политики, телесности, пола, производственных практик и т. д. Деконструируя власть Запада, постмодернисты стремятся в его лице низвергнуть принцип иерархии вообще. ТММ не разделяет этого пафоса, полагая, что деконструкция «воли к власти» Запада, чрезвычайно полезная для расчищения поля создания ТММ и, соответственно, для построения многополярного мира как такового, не ликвидирует «волю к власти» как явление, а вместе с ней и любую иерархическую геометрию мира, но релятивизирует эту волю, демонополизирует Запад в его претензии быть единственным носителем «воли к власти» и навязывать свое западное (сегодня — либерально-капиталистическое) издание этой воли остальным обществам.
Западная «воля к власти» есть, и она на самом деле предопределяет структуру всего западного дискурса. В соответствии с этим организуется среда МО и ее теоретическое осмысление (даже точнее: осмысление организует эту среду через ее теоретическое осмысление). Но, вскрыв и признав это, можно сделать вывод, отличный от постмодернистского. Не отвергая эту волю в целом, следует ограничить ее естественными историческими и географическими пределами западной цивилизации и в этих рамках позволить ей либо утверждаться, либо трансформироваться, либо сползать в сети и клубни турбулентного общества. Это выбор Запада. Но выбор иных цивилизаций — евразийской, исламской, китайской, индуистской и т. д. — вполне может заключаться в том, чтобы отстоять право культивировать свою версию «воли к власти», построенную на основании исторических традиций, культур, религий, социальных особенностей и т. д. Православная, китайская, исламская или индийская «воля к власти» могут отличаться и друг от друга, и от европейской, и любая из них имеет все основания для того, чтобы укрепляться, видоизменяться, мутировать или распыляться. В каждой цивилизации у «воли к власти» может быть своя судьба. Освободившись от глобального влияния со стороны гегемонистского дискурса Запада и принуждения к его полному (до карикатуры) копированию, цивилизации получат огромную степень свободы поступить с автохтонными структурами «воли к власти» по своему собственному усмотрению. И в этом не должно быть никаких заведомых универсалистских предписаний (в том числе и постмодернистских). «Волю к власти» можно принять или отбросить, это остается на усмотрение конкретных обществ. Но освободиться от одной-единственной гегемонистской «воли к власти» современного капиталистического Запада необходимо.
Релевантность феминизма для ТММ
Феминизм в МО обладает большой методологической ценностью для ТММ в силу того, что демонстрирует, как социологическая позиция (в данном случае гендерная) аффектирует теоретические конструкции. Особую ценность представляет собой «stand point feminism», «ситуационный феминизм», наглядно демонстрирующий возможность радикального пересмотра социально-политических теорий, стоит только начать их построение с иной социологической отправной точки — в данном случае, из «ситуации» женщины, а не мужчины. В результате мы получаем совершенно особую теорию, имеющую с общепринятыми мало общего. Тем самым подрывается претензия на универсальность однобоких (здесь — маскулинистских) дискурсов.
ТММ предлагает повторить этот ход, поставив в основании теории не иной гендер, а иную цивилизационную идентичность. Это даст нам «stand point civilizational apprоach» — т. е. «ситуационный цивилизационный подход». Если для западной цивилизации антропологический принцип Гоббса «человек человеку — волк» может работать и стать основанием дальнейших политологических конструкций, вплоть до концепции Левиафана, суверенитета, национального Государства и анархии международных отношений, а может быть оспариваемым более гуманной и пацифистской позицией Локка и Канта, то в контексте любой другой цивилизации мы имеем дело с совсем иной антропологией, сопряженной с качественно иными базовыми представлениями о человеке и его природе. Например, в индуизме действует принцип «человек человеку — бог», в православной этике — «ты больше, чем я», а в исламской религии — «перед лицом Аллаха нет различия между одним и другим». Везде мерой вещей являются разные реалии, где-то все измеряется человеком, а где-то нет, и сам человек видится производным от иной субстанции (например, в буддизме индивидуум есть случайный поток переплетенных дхарм и не имеет собственной природы и собственного «я», откуда буддистский принцип «анатман»).
Стоит встать на антропологическую точку зрения какой-то конкретной, но не западной цивилизации, и мы получаем совершенно новую концепцию Государства, власти, общества, истории, международных и межгосударственных отношений и связей, отличающуюся от западной намного больше, чем мужской взгляд от женского в рамках самой западной цивилизации. Поэтому феминизм в МО может служить иллюстрацией социологического плюрализма стартовых позиций, который можно применить и в совершенно ином контексте.
Что же касается собственно требований феминисток расширить присутствие женского начала в теоретизации МО, то это как раз совершенно не обязательно буквально воспроизводить в ТММ. Помимо того, что женский и мужской взгляды на мир существенно различаются в контексте одной и той же цивилизации (на что совершенно справедливо указывают феминистки, требующие эти различия изучать и учитывать), разные цивилизации поразному конституируют гендерные пары — также на основе присущей только им уникальной антропологии. Например, лишение индусской женщины права взойти добровольно на жертвенный костер после смерти мужа (обряд сати), как это зафиксировано в законодательстве современной Индии, копирующей правовые кодексы западных обществ, вполне может рассматриваться как «ущемление прав индусской женщины», тогда как европейцам обоего пола этот обряд скорее всего внушит лишь ужас и отвращение. В разных цивилизациях семантическое содержание пола качественно различается, и вопрос о месте женщины в обществе должен решаться на основании локальных социальных традиций и устоев. Если феминистки борются против стремления мужчин выдать свои гендерные архетипы и установки за нечто универсальное, они должны были бы осудить в той же мере и стремление выдать за универсальные любые ценности, имеющие историческое и локальное происхождение, — в том числе и идею равенства полов, которая в современном виде является, безусловно, сугубо западным, модернистским и отчасти постмодернистским концептом.
Релевантность исторической социологии для ТММ
Чрезвычайно актуален для ТММ метод исторической социологии в МО, т. к. он позволяет рассмотреть современную эволюцию всей системы международных отношений в исторической перспективе, а значит, расчищает горизонты будущего и делает возможным новое углубленное осмысление истории. Представители историко-социологической школы в МО критикуют классические теории за отсутствие у них исторического измерения. Это означает, что эти теории не уделяют должного внимания эволюции акторов, действующих единиц и руководящих принципов, предопределяющих взаимодействия между собой Государств и обществ на разных этапах истории. Считая, что сегодняшнее положение дел так или иначе воспроизводит то, как было всегда, и проецируя на прошлое нынешнее статус-кво (темпоцентризм и хронофетишизм большинства теорий МО), классические парадигмы в МО закрывают возможность понять прошлое и обрекают будущее на повторение одних и тех же механических закономерностей. Утрата исторического чувства приводит большинство теоретиков МО к неадекватным прогнозам и анализам, ярким случаем чего стала полная неспособность неореалистов и неолибералов предсказать крах двухполярного мира и распад СССР буквально накануне того, как эти принципиальные события стали свершившимся фактом. Структура международных отношений некогда была качественно отличной от той, что есть сейчас, и вполне вероятно, в ближайшем будущем станет качественно отличной от той, что существует сегодня. Чтобы предсказать и спроектировать будущее и понять прошлое, в сфере МО необходимы особые теоретические инструменты, которые и разрабатывает историческая социология.
Одну из версий такого историко-социологического подхода предлагают известные теоретики этого направления Б. Бузан и Р. Литтл253. Они вводят понятие «интернациональной системы» и прослеживают фундаментальные изменения этой системы на разных исторических этапах. Суть их теории сводится к следующему.
Существует 4 «интернациональные системы»:
- преднациональная система (характерная для тех обществ, где еще нет никаких следов политической Государственности — племена охотников и собирателей, ранние фазы аграрных производителей и т. д.);
- классическая или античная система (соответствует городам-государствам, империям и первым политическим образованиям; эта система характерна для традиционного общества и продолжает существовать в течение тысячелетий вплоть до начала Нового времени в Европе);
- глобальная интернациональная система (приходит на смену классической; основана на взаимодействиях суверенных национальных Государств и характеризуется тем, что накладывает сетку национальных территорий на все обитаемое пространство планеты — отсюда ее глобальность);
- постмодернистская интернациональная система (складывающаяся в результате глобализации и представляющая собой результат мутации предыдущей системы и диффузии структур национальных Государств).
При переходе от одной интернациональной системы к другой меняется практически все — главные акторы, структура взаимодействия между ними, интенсивность контактов и обменов, экономический уклад, политическое оформление власти, идеологии и т. д. При этом все исторические переходы происходят не одновременно и не мгновенно, а иногда растягиваются на тысячелетия, и в разных частях мира протекают по-разному и с разной скоростью. Чтобы понять настоящий момент в международных отношениях, необходимо поместить его в конкретный фундаментальный историко-социологический контекст.
Теория интернациональных систем важна для ТММ по двум причинам.
Первая: эта теория позволяет лучше понять, как стало возможным появление цивилизации в качестве претендента на главного актора международных отношений.
Вторая: в ее контексте можно сосредоточиться на историческом и социологическом смысле того, какой станет постмодернистская система — ведь сегодня совершенно не ясно, в каком направлении она будет эволюционировать дальше, более того, в отношении этого направления могут и должны вестись самые серьезные споры. Будущее не предопределено, оно открыто и делается теми, кто осуществляет выбор сегодня. Рассмотрим этот аспект несколько подробнее.
Если следовать универсалистскому и западоцентричному взгляду на историю, то переход к глобальной интернациональной системе представляет собой нечто «необратимое» и «справедливое» для всех обществ земли. Даже там, где страны были включены в эту систему изначально в статусе европейских колоний, они постепенно получают независимость и обретают национальный суверенитет. Но так обстоит дело только на поверхности. Под тонкой пленкой модернизации политических систем в большинстве незападных обществ сохраняется совершенно иная социокультурная модель, как правило, соответствующая именно классической или античной интернациональной системе. Модернизация распространяется на верхние слои общества, большинство же остается в условиях общества традиционного. Поэтому получающие независимость бывшие колониальные общества лишь формально являются «современными» и, соответственно, полноценными акторами Вестфальской системы. В своей сути они, как и прежде, продолжают оставаться традиционными.
Именно этот фактор и проявляется тогда, когда рушится двухполюсный мир. Из-под тонкой пленки модернизации проступают контуры реального содержания многих социокультурных регионов. Здесь обнаруживается возрастание значения и роли всех тех признаков, которые составляют отличительные черты именно традиционного общества — религии, этики, семьи, этноса, эсхатологии и т. д. Это и есть феномен «всплытия цивилизаций» («emergency of civilizations»), когда после обрушения структуры Модерна (двухполярности) в условиях Постмодерна (глобализации) поднимается континент Премодерна (столкновение /диалог цивилизаций).
В терминах исторической социологии МО это описывается как обнаружение признаков классической интернациональной системы при переходе от глобальной интернациональной системы к постмодернистской. Глобализирующийся мир, намереваясь сделать решительный шаг вперед за пределы Модерна и Нового времени, внезапно обнаруживает, что во многих регионах мира Модерн еще, оказывается, толком и не утвердился, а Нового времени пока там так и не наступило. И здесь возникает подозрение, что, может быть, в этих незападных обществах Модерн в его европейском и привычном для нас понимании вообще невозможен, а Нового времени не наступит никогда. Это и есть актор цивилизации — со всем веером его премодернистских атрибутов. И если этот актор окажется достаточно сильным и устойчивым, то универсалистская и прогрессистская логика линейного понимания истории, свойственного Западу, будет опрокинута. ТММ в определенном смысле это и предлагает осуществить, перейдя от линейного понимания истории к циклическому, от всеобщего и единого времени человечества — к особым траекториям и маршрутам отдельных цивилизационных времен, переплетающихся друг с другом в сложном и требующем пристального внимания постоянно меняющемся узоре254.
Отсюда можно сделать второй шаг и рассмотреть постмодернистскую интернациональную систему, о которой говорят Бузан и Литтл, как открытый выбор между продолжением западоцентричной глобализации, но только с постоянным размыванием вертикальной ориентации гегемонистского дискурса Запада и многополярным проектом, в котором в дело вступают забытые, но вновь пробуждающиеся от анабиоза структуры традиционного общества, т. е. цивилизации, культуры, религии. Если в контексте каждой интернациональной системы меняются смыслы, акторы, связи и структуры, то переход от глобальной системы к новой системе также предполагает сдвиги, сломы, смену идентичностей и парадигм. Некорректно применять к постмодернистской системе модернистские критерии, на глазах утрачивающие свою релевантность. А значит, смысловые горизонты той интернациональной системы, которая приходит на смену глобальной системе и условно пока определяется как «постмодернистская», остаются открытыми и проблематичными, а за формирование их может вестись напряженная и страстная борьба между различными сегментами человечества.
Это важный пункт ТММ: Постмодерн в МО не является предрешенным и не означает перехода от одной приблизительно понятной структуры международных отношений к другой, тоже в целом представимой. Это, скорее, открытый процесс с неопределенным исходом, который может привести как к одной модели миропорядка, так и к совершенно иной и отличной от первой по основным параметрам. Постмодерн может стать продолжением Модерна, а может оказаться выходом за его границы в сторону от магистральной логики его развертывания. Этот второй вариант Постмодерна представляет собой шанс построения многополярного мира на основе цивилизационного плюрализма.
Другим важнейшим теоретическим моментом для развертывания ТММ является критика представителями исторической социологии (в частности, британским теоретиком МО Джоном Хобсоном) евроцентризма и расизма всех существующих теорий МО. Его книга «Евроцентристская концепция мировой политики»255 является фундаментальным теоретическим вкладом в становление ТММ и может быть целиком включена в контекст этой теории. Хобсон, с одной стороны, демонстрирует несостоятельность отождествления западной системы ценностей с универсальной, при том, что западная система объявляется высшей, а все остальные типы цивилизаций и их ценностные системы — низшими (прямой или сублиминальный расизм), а с другой, предлагает построить сбалансированную и полицентричную теорию МО, где западная цивилизация была бы возвращена в свой исторический и «провинциальный» (с точки зрения всей планеты и всего человечества) контекст. Идеи Хобсона могут быть полностью интегрированы в ТММ и стать ее важнейшей концептуальной составляющей.
Релевантность нормативизма для ТММ
Нормативизм в МО чрезвычайно удобен для «густого» анализа цивилизаций и структуры соотношений и связей между ними. Этот подход ставит в центре внимания исследование норм, ценностей, идей и идеалов конкретных обществ, с помощью чего достигается углубленное понимание того, как осмысляются основные темы международных отношений в разных странах и социальных контекстах. Такой нормативистский подход предполагает, что образы мировой политики осмысляются и интерпретируются каждым обществом в соответствии с его культурными установками (нормами). И эти нормы влияют на политическое руководство и иные центры, принимающие решения во внешней политике, т. к. они никогда не являются оторванными от остальной социальной среды, но связаны с ней и зависят от нее по внутриполитическим соображениям (вопрос легитимности). Если отдельные λ-индивидуумы, и даже их множество, не обладают компетенцией в сфере международных отношений и в вопросах внешней политики, их совокупные представления вполне могут влиять на легитимацию правителя. Внешняя политика, таким образом, помещена в конкретный социокультурный контекст, и в этом контексте символы, предпочтения, установки и этнические комплексы играют важную роль.
Приоритетно изучая образы из области международных отношений (например, фигуру «другого») и их резонанс в конкретном обществе, нормативисты подводят нас вплотную к составлению цивилизационной карты, где различные общества проецируют разные комплексы моральных критериев, этических оценок, императивов и правил на международную среду. Как это сопрягается с конкретной реальной политикой в каждом конкретном случае, следует рассматривать отдельно, но при таком подходе вся сфера зоны международных отношений становится не пространством применения силовых или экономических технологий или институциональных глобалистских инициатив, но полем символов и знаков, которые к тому же разные общества и культуры интерпретируют поразному — в соответствии со своими ценностными комплексами.
Так, для ТММ открывается широкий простор символического анализа международных отношений на основе конкретных цивилизационных ансамблей, каждый из которых описывается через оригинальную картину норм и идеалов.
Другой ценной стороной нормативизма является выделение двух этических систем в МО в работах нормативиста К. Брауна. ТММ исходит из того, что в условиях многополярности только коммунитаристская этика должна рассматриваться как нормативная, поскольку каждая цивилизация основывает свою ценностную систему на собственных критериях и принципах и даже «универсальность» понимает всякий раз по-своему, т. е. локально. Отсутствие общей меры для всех цивилизаций, последовательный цивилизационный релятивизм ТММ, исключает саму возможность существования обоснованной космополитической этики. А то, что выдается за таковую, при ближайшем рассмотрении обнаруживается как универсализация западной цивилизационной модели. Таким образом универсализм и основанный на нем глобализм на поверку оказываются лишь формами колониализма, империализма и расизма, т. е. проекциями одной коммунитаристской (исторически и географически предопределенной) этической системы на все человечество.
Релевантность конструктивистской теории для ТММ
О значении конструктивизма для ТММ уже шла речь ранее. Важнее всего в этом подходе внимание, которое уделяется теоретическим построениям, имеющим подчас определяющее значение в осуществлении того или иного проекта. Представления о мире аффектируют мир и если не делают его таким, каким он представляется, то, по крайней мере, придают ему некоторые качественные черты. Следовательно, система международных отношений есть в значительной степени результат конструирования в процессе развертывания теоретического поля МО как дисциплины.
Сами конструктивисты, в первую очередь А. Вендт, предпочитают использовать этот метод в гуманистическом и неолиберальном ключе, указывая на то, как много в МО зависит от самоограничивающих формулировок или запрограммированных изначальными установками конфликтов. Вендт полагает, что анархию международных отношений можно осмыслить по-разному — в духе Гоббса (соперничество, готовность к войне), в духе Локка (конкуренция, мирное соперничество) и в духе Канта (солидарность, партнерство, объединение в единое гражданское общество). По Вендту, онтологически это одна и та же анархия, но ее гносеологическая оценка позволяет сконструировать на ее основании либо поле вражды, либо зону конкуренции, либо пространство тесного солидарного сотрудничества. Как мы сконфигурируем понимание реальности в международных отношениях, такой она в конце концов и предстанет. Согласно конструктивистам, мы живем в том мире, который создаем сами. Николас Онуф формулирует это в названии своей программной книги — «Мир, который мы сами и сделали» («World of Our Making»)256.
Но в контексте ТММ на основании конструктивистского понимания природы международных отношений можно сделать заключение, отличное от (в целом) либеральной ориентации самих конструктивистов. Они хотят сделать мир «более гуманным» в духе соответствия тем ценностям, которые представляются им базовыми и само собой разумеющимися в контексте западной модернистской и отчасти постмодернистской культуры. Но это «мир, сделанный ими» — «World of Their Making». Незападные цивилизации вполне логично предпочтут «сделать мир» в соответствии с их собственными установками и идеями, традициями и культурными паттернами. Западный мир, претендующий сегодня на то, чтобы быть единственной и универсальной моделью мира, создан людьми Запада. Они же научились его деконструировать и конструировать заново. Эта практика является критически важной для ТММ. Но применять ее надо в ином контексте и для решения других задач. Осознав, что в лице норм, претендующих на самоочевидность и универсализм (технический прогресс, демократия, права человека, толерантность, гуманизм, рыночная экономика, свободная пресса и т. д.), мы имеем дело с проекцией только одной из цивилизаций, причем с чертами, присущими только одной исторической фазе этой цивилизации, мы будем способны легко локализовать западный дискурс, подвергнуть его деконструкции и освободить тем самым смысловое поле для конструирования иной реальности. Мир, созданный нами, а не ими, может быть и должен быть только многополярным. И чтобы он стал таким, его остается только сконструировать.
Начинать надо с теории, т. к. именно в пространстве репрезентаций и концептов коренятся истоки того, что затем мы начинаем воспринимать и переживать как реальность, данность и статус-кво.
Пример анализа многополярного мира в сравнении с постмодернистской интернациональной системой
Приведем пример того, как метод, предлагающийся теоретиками «интернациональных систем», мог бы быть применим к многополярности.
Предлагаемый анализ интернациональной системы сводится к выявлению следующих уровней257:
- система;
- подсистема;
- unit (основная единица);
- subunit (подъединица);
- индивидуум.
И к рассмотрению отношений между ними в сферах:
- военной;
- политической;
- экономической;
- социальной;
- амбиентальной.
Кроме того, в интернациональной системе выделяется:
- взаимодействие (бывает линейным или многоординатным — это определяет уровень интенсивности взаимодействия — по характеру чаще всего сводится к пяти типам — войны, союзы, обмены, заимствование, доминация);
- структура (статичная модель организации unit в систему);
- процесс (трансформация всех отношений по качественной шкале).
По Бузану /Литтлу постмодернистская интернациональная система характеризуется следующими особенностями:
- расширение номенклатуры базовых единиц (units) (по сравнению с глобальной системой, где преимущественно действовали Государства);
- появление негосударственных акторов вплоть до новой единицы — кочевника асфальта (Э. Юнгер, Ж. Аттали), космополита, полностью равнодушного к системе территориализированных иерархий;
- еще более высокая интенсивность взаимосвязей;
- возникновение новых сверхгосударственных пространств — информационного, торгового, культурного, сетевого, дистрибьюторского, стилевого;
- глобальное взаимодействие как дисперсия (дисперсия военнополитических базовых единиц — к торгово-экономическим единицам);
- появление новых локальностей (регионализм).
Эта картина постмодернистской интернациональной системы, описываемая Бузаном /Литтлом, соответствует, в целом, глобалистскому видению и концептам транснационализма и неолиберализма.
Теперь опишем по той же методике многополярную модель.
Главной базовой единицей (unit) является цивилизация (полюс многополярного мира).
Эта единица входит в планетарную систему, основанную на межцивилизационном взаимодействии. С соседними цивилизациями складывается подсистема — каждый раз разная — в зависимости от того, какую цивилизацию мы рассматриваем. Здесь могут быть асимметричные ситуации.
На уровне подъединиц (subunits) мы встречаем целый спектр концептов, и их номенклатура может быть различной и асимметричной — частично иерархической, частично рядоположенной.
В постмодернистской системе в этом вопросе есть совпадение с многополярностью: и там, и там фиксируется рост значения локальных факторов и новый регионализм.
Так, среди подъединиц (subunits) можно выделить доминантную социокультурную общность и миноритарные общности. Эти миноритарные общности могут соответствовать доминантным общностям в других цивилизациях, а могут быть уникальными.
Эти общности способны структурироваться по культурному, религиозному, этническому, территориальному или иному признаку, образуя суперпозицию идентичностей. Каждая из этих идентичностей может быть тождественной или отличной от доминантной общности, иметь или не иметь аналоги в других цивилизациях. В зависимости от этого будут складываться и межцивилизационные отношения.
Появление новых или возрождение прежних общностей (религиозных, этнических, социокультурных и иных) является признаком многополярного мира.
Отношения между цивилизациями будут складываться неравномерно в зависимости от того, какую подъединицу (subunit) мы рассматриваем. Связи с отдельными религиозными или социокультурными группами могут развиваться весьма интенсивно. Между доминантными группами цивилизаций, напротив, связи и обмены скорее всего будут осуществляться в довольно ограниченной сфере и при опосредовании специальных инстанций на это уполномоченных.
Вместо повышения роли индивидуального актора, кочевника асфальта, напротив, многополярность предполагает сведение к минимуму индивидуальной идентичности в пользу разнообразного выбора асимметричных коллективных идентификаций и социальных статуарных наборов.
Техника как явление, претендующее на универсализм и культурную нейтральность, будет возвращена в свой изначальный историкокультурный контекст и осознана как специфический гаджет лишь одной из цивилизаций, выражая собой ее гегемонистские претензии и ее этноцентрический импульс.
Сравнивая модели постмодернистской системы, предлагаемые историческими социологами в МО (и в целом совпадающие у транснационалистов, глобалистов и неолибералов), с моделью многополярного мира, мы видим фундаментальное различие в образе картин будущего. В одном случае (у обычных постмодернистов) мы имеем дело с транспозицией современного западного кода на все более и более распыленный индивидуальный уровень. Во втором случае человечество рекомбинируется и регруппируется на основе холизма — коллективной идентичности, хотя структура этой идентичности, взаимодействия между собой отдельных групп и процессы, отражающие постоянное изменение в качестве этих взаимодействий, будут представлять собой динамичную картину, не сводимую ни к классической интернациональной системе, ни к глобальной, ни к той, которую описывают представители исторической социологии в МО под названием «постмодернистской» (в ее неолиберальной и транснационалистской) версиях.
При этом качественное семантическое изменение природы unit по сравнению с глобальной системой, где базовой единицей было национальное Государство, в ТММ можно уподобить тому различию, которое существует между элементарной частицей классической физики и фракталом (Б. Мандельброт) или петлей (в физике суперструн Э. Виттена). Цивилизация есть комплексная реальность с очень сложной и всякий раз уникальной геометрией и системой странных аттракторов. Поэтому и система межцивилизационных отношений, таких как войны, союзы, обмены, заимствования и доминация, приобретет комплексный характер258. Межцивилизационная война будет чем-то принципиально иным, нежели войны между Государствами — и по сути, и по форме. Также чем-то иным будет союз цивилизаций или природа мирных договоров. Характер обмена, в том числе и экономического, станет определяться уровнем, где эти операции осуществляются: в цивилизации таковыми могут быть довольно разные инстанции и довольно разные группы (в отличие от статоцентричной концепции в классических парадигмах МО или атомарных индивидуумов / множеств в неолиберализме и неомарксизме).
И наконец, доминация одной цивилизации над другой также может носить амбивалентный характер: материальное превосходство не всегда будет означать когнитивное превосходство и гносеологическую гегемонию. И напротив, духовная доминация в отдельных случаях может сопровождаться отставанием в развитии материальной сферы. Многополярный мир оставляет все возможности предельно открытыми.
Из этого можно сделать важное заключение: многополярный мир — это пространство предельно открытой истории, где живое участие обществ в создании нового мира, новой карты реальности не будет ограничено никакими внешними рамками, никакой гегемонией, никаким редукционизмом или универсализмом, никакими предустановленными и навязанными кем-то со стороны правилами. Такая многополярная реальность будет намного более сложной, комплексной и многомерной, чем любые постмодернистские интуиции.
Многополярный мир — это рукотворное пространство практически неограниченной исторической свободы, свободы народам и общинам самим верстать свою историю.
Резюме
Сведем основные сходства и различия между ТММ и другими парадигмами в МО в обобщающую таблицу.
Парадигма
Сходства
Различия
Реализм
Суверенитет акторов
Анархия международных отношений
Актор — не национальное Государство, но цивилизация /политейя
Неореализм
Баланс могуществ /гегемоний
Отрицание глобальной гегемонии Запада
Отрицание двухполярности
Либерализм
Интеграция и наднациональная институционализация на основе общих ценностей
Отказ от приоритета либеральной демократии и непризнание универсальности западных ценностей
Неолиберализм
–
Отказ от глобализации /
транснационализма
Марксизм /неомарксизм
Критика глобального капитализма
Непризнание универсальности фаз развития
Отказ от исторической необходимости глобальной мирсистемы
Критическая теория
Критика (западной / капиталистической) гегемонии
Контргегемония
Индивидуализм
Маргинализм /
Анархизм
в качестве ценностей (контробщество)
Постмодернизм
Деконструкция глобальной воли к власти
Девалоризация власти как таковой
Феминизм
Деконструкция гендерного маскулинизма и эксклюзивизма в МО
Учет женского гендера в культуре и цивилизации
Stand point feminism
Отказ от либерального феминизма /
прямолинейного эгалитаризма /
легализации однополых браков /
релятивизации и дезонтологизации пола
Историческая социология
Антирасизм
Антиевроцентризм
Историчность обществ и интернациональных систем
Критика темпоцентризма и хронофетишизма
Построение незападной теории МО
–
Нормативизм
Приоритет норм и ценностей при определении цивилизации
Коммунитаристская этика
Космополитическая этика
Конструктивизм
Конструктивистский характер объекта МО
Деконструкция
Конструирование
Сублиминальный евроцентризм
Основные темы и сюжеты МО в контексте ТММ
Власть (Князь) в ТММ
Рассмотрим несколько конкретных аспектов ТММ применительно к классическим темам, разбираемым в МО.
Важнейшим вопросом в МО является выявление инстанции, которая является носителем верховной власти, определяющей структуру поведения актора в среде международных отношений. Эта инстанция функционально называется «носителем суверенитета», или «Князем» (по терминологии Н. Макиавелли259).
Базовой единицей (unit) в ТММ является, как мы видели, цивилизация. Соответственно, необходимо выяснить, как решается в таком явлении, как цивилизация, проблема власти и ее носителей и, соответственно, проблема суверенитета.
Этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Цивилизация, как мы видели, комплексное явление, математическое и геометрическое описание которого требует введения нелинейности. В этом принципиальное отличие цивилизации от национального Государства, которое в Новое время ввело как строго рационализированную схематичную редукционистскую реальность, в таком качестве и осмысляемую в большинстве теорий МО. Лишь постпозитивистские теории МО стали постепенно релятивизировать эту линейную схему, доминирующую в реализме и либерализме, а также, с некоторыми существенными поправками, в марксизме. Нелинейность процессов и комплексность акторов в турбулентных моделях международных отношений Постмодерна представляются намного более примитивными, упрощенными и предсказуемыми в сравнении с цивилизацией. Постпозитивистские теории в любом случае имеют своим концептуальным пределом индивидуумов (отсюда идеология прав человека), к математической сумме которых при всех обстоятельствах сводится вся система МО даже в самой смелой постмодернистской модели. Атомарный индивидуум составляет концептуальную опору как национальных Государств, так и демократий, как гражданского общества, так и постмодернистских множеств альтерглобализма. И во всех случаях этот атомарный индивидуум репрезентируется на основании западной антропологии, концептуализируется в свете классических модернистских и постмодернистских представлений. Иными словами, пределом сложности турбулентных систем является индивидуум как концепт, сконструированный по выкройкам западноевропейской социологии260. Соответственно, все калькуляции вокруг проблемы носителя суверенитета так или иначе выстраиваются на основе этого концепта. Атомы могут складываться самым причудливым и замысловатым образом, но всегда любая композиция сводима к дигитальному коду, поддающемуся статистическому расчету. Поэтому вопрос о власти и представительстве в классических и даже постпозитивистских теориях МО всегда принципиально сводим к калькуляционной схеме: индивидуумы и группы индивидуумов могут делегировать власть своим представителям вплоть до суверенного правителя (индивидуального или коллективного — президента, премьер-министра, правительства, парламента и т. д.) или, напротив, опускать эту власть все ниже и ниже — на средний уровень (субсидиарность федералистских моделей, местное самоуправление) или даже еще ниже, вплоть до собственно индивидуального уровня (проект электронного референдума всех граждан через прямое онлайн участие — в ультрадемократических утопиях планетарного гражданского общества). Какой бы ни была инстанция суверенитета, она высчитывается и определяется на основе индивидуума как специфически западного базового социологического и антропологического концепта261. Власть есть явление человеческое и индивидуальное.
Но плюрализм цивилизаций выбивает почву из-под такой концептуализации. Дело в том, что разные цивилизации оперируют с разными антропологическими конструктами, большинство из которых не разлагаются на атомарных индивидуумов. Иными словами, атомарные индивидуумы не являются неразложимыми (атомарными) или автономно содержательными моментами. В разных цивилизациях человек может быть кем угодно, но только не самостоятельной самотождественной единицей. Чаще всего он представляет собой осознанную и эксплицитную функцию от социального целого (на этом принципе основана социология Э. Дюркгейма и его последователей, культурная антропология Ф. Боаса и его учеников, а также структурализм К. Леви Стросса). Соответственно, структура власти и ее формализация в каждой отдельной цивилизации отражает специфику организации холистского ансамбля, которая может качественно отличаться в каждом конкретном случае.
Кастовый принцип индуизма имеет мало общего с исламской религиозной демократией или китайским ритуализмом. Кроме того, одни и те же цивилизационные основы могут давать различные концептуализации власти в ее отношении к обществу и отдельным людям. В христианской цивилизации мы видим (как минимум) две полярные средневековые модели нормативного Государства — 1) симфония властей и цезарепапизм Византии (отголоски чего до сих пор ясно ощущаются в православных странах, и особенно в России) и 2) августиновский, в духе учения о «двух градах», принцип папоцезаризма, свойственный католическому Западу. После Реформации к этому добавился широкий спектр протестантских концептуализаций природы власти — от лютеранской монархии до профетически-либерального кальвинизма и эсхатологического анабаптизма.
Поэтому заведомо следует рассмотреть власть в контексте цивилизации как фрактальное нелинейное явление, отражающее самобытную геометрию каждого конкретного социального «холоса».
Конечно, кто-то в цивилизации должен принимать решение в вопросах, связанных с межцивилизационными отношениями — в частности, о мире и войне, союзе и его расторжении, о сотрудничестве и обмене, о запретах, квотах и тарифах и т. д. Можно назвать это стратегическим полюсом цивилизации. Эта инстанция является условной и выводимой чисто теоретически как умозрительное пространство, где концентрируются решения, затрагивающие в той или иной степени сферу международных отношений. Этот стратегический полюс и есть полюс многополярного мира, поскольку мир цивилизаций открывается как многополярный именно за счет пересечения интересов или оформления конфликтов, проходящих через инстанцию полюса.
Стратегический полюс должен присутствовать в любой цивилизации. Его наличие и делает мировую систему многополярной, но его место и его содержание, а также его структура и связь с другими уровнями власти в каждой цивилизации могут быть уникальными и не похожими ни на что другое.
Примером одной из таких комплексных систем является модель принятия решений в современном Иране, где объем суверенитета пропорционально разделен между светской властью президента и духовными структурами аятолл. В Саудовской Аравии меджлис, аналог парламента, представляет собой площадку для консенсусных решений трех доминирующих в этом обществе сил: многочисленной королевской семьи, духовных авторитетов салафитского Ислама и представителей наиболее значимых бедуинских племен. В современном Китае совокупность политических и экономических интересов этой своеобразной страны при выходе в область международных отношений жестко контролирует и регламентирует Компартия. В Индии баланс фасадного светского парламентаризма и имплицитной кастовой системы создает многоуровневую модель принятия наиболее важных решений. В России вполне устойчив едва прикрытый демократическими процедурами западного образца патерналистский авторитаризм.
Все эти реальные формы организации стратегического полюса считаются по западным меркам «аномалиями», подлежащими «европеизации», «вестернизации», «модернизации» и «демократизации», а затем и ликвидации в общей системе глобального гражданского общества. Но этот проект представляется сегодня все более утопичным даже самым последовательным апологетам планетарной демократии. В этом отношении показательно изменение взглядов Ф. Фукуямы в последние годы, когда он признал, что его ожидания скорого «конца истории» были явно поспешными, т. к. на пути глобализации и создания планетарной либерально-демократической системы стоит еще слишком много с трудом преодолимых препятствий для того, чтобы можно было «положить конец истории» в ближайшем будущем262.
При принятии модели многополярного мира системы власти, коренящиеся в цивилизационных особенностях традиционных обществ, утратят необходимость скрывать себя под поверхностно принятыми и двусмысленными западными демократическими стандартами. Поэтому стратегический полюс цивилизации может вполне открыто провозгласить себя, признав эксплицитно себя тем, чем он и так имплицитно является в большинстве незападных обществ. Но только вместо того, чтобы испытывать за это «угрызения совести» перед лицом недостижимого западного образца (выдаваемого за «универсальную норму»), цивилизации получат возможность институционализировать свои особые модели власти в соответствии со своими традициями, историческим состоянием обществ и волеизъявлением тех социальных инстанций, тех выразителей культурного «холоса» цивилизации, которые в них считаются наиболее авторитетными и правомочными для подобных действий. Это образует концепт «нашего Князя», Princeps nostrum, т. е. не просто самобытной формы устроения верховной власти (автократия, демократия, представительство, династичность, меритократия и т. д.), но и свободы насытить ее различным цивилизационным содержанием — светским, сакральным, функциональным, рациональным или религиозным.
Цивилизационный плюрализм ТММ совершенно не настаивает на ликвидации демократии там, где она есть, или на том, чтобы препятствовать ее появлению и созреванию там, где ее нет или она слаба и номинальна. Ничего подобного. ТММ не является заведомо антидемократической. Но она не является и нормативно демократической, т. к. ряд цивилизаций и обществ вообще не считают демократию в ее западном издании ни ценностью, ни оптимальной формой социально-политической организации. Если так считает общество и если это имеет обоснование в цивилизационном укладе, то это надо принять как факт. Сторонники демократии могут бороться за свои идеалы и взгляды, как им вздумается. Они могут выиграть, но могут и проиграть. Все это вопросы, решать которые предстоит внутри цивилизации, без оглядки на какие бы то ни было укоряющие или подбадривающие взгляды или недовольные реакции извне.
Поэтому стратегический полюс, который должен существовать в силу полицентричного характера многополярного мира, не может иметь однотипного политического содержания — аналогичного понятию национального Государства в Вестфальской системе. Эта система строилась на оптимистической уверенности в универсальности человеческого разума, под которой, как позже выяснилось, понималась весьма специфическая рациональность европейского человека Нового времени, высокомерно и заносчиво принятого за «трансцендентальный разум» вообще. Европейская рациональность Нового времени, стремительно изживающая себя сегодня, оказалась пространственно локальным историческим моментом, не более того. С постепенным осознанием этого связан и Постмодерн в целом, и эрозия Вестфальской системы, в частности.
ТММ не предлагает нового универсализма в области определения того, кто нормативно должен являться носителем власти в новых базовых единицах (units) многополярного мира. Но он не впадает и в хаотический экстаз полуживотного ризоматического иррационализма постструктуралистов. Цивилизации как структуры, как языки имеют все основания для развертывания своих особых моделей рациональности, иерархическая симметрия которых, предопределяющая структуру властных отношений, и, соответственно, политическое устройство общества (которое есть не что иное, как калька философской парадигмы, что ясно показано у Платона и Аристотеля) могут быть любыми.
Поэтому вопрос о власти в многополярном мире решается следующим образом. Извне мы намечаем в каждой цивилизации стратегический центр, который выступает субъектом диалога в международных отношениях. Этот стратегический центр есть формализация цивилизации и ее метонимическая аббревиатура в системе многополярности. Но ее структура и ее содержание, ее соотношение с внутренними пластами и этажами общества, объемы ее полномочий и характер легитимации — все это может качественно и фундаментально варьироваться. Многополярность запрещает оценивать эту легитимацию извне, т. е. выносить суждение относительно содержания власти в цивилизации, отличной от той, к которой принадлежит наблюдатель. Поэтому концепт стратегического центра остается вполне конкретным вовне, в сфере международных отношений, но совершенно произвольным внутри и может быть сконфигурирован в соответствии с культурными кодами каждого отдельного общества на основании свойственной ему и только ему социальной и политической антропологии.
Можно назвать этот принцип ТММ «плюральностью Князя».
Решение в ТММ
Подобный фрактальный подход является базовой установкой ТММ в отношении всех других классических тем МО, связанных с суверенитетом, легитимностью акторов, легальностью процедур в международных отношениях и т. д. Во всех случаях правильным ответом будет обращение к уникальной социальной и культурной специфике каждой цивилизации — при отсутствии какой бы то ни было априорной проекции. ТММ требует от теоретика максимальной цивилизационной апперцепции — т. е. способности рефлектировать собственную принадлежность к той цивилизации, от лица которой осуществляется анализ международных отношений, а также проникновения в ценностную цивилизационную систему изучаемой цивилизации. Здесь в полной мере релевантны требования, предъявляемые к культурным антропологам, намеривающимся исследовать то или иное архаическое общество. Для этого необходимы:
- знание языка;
- включенное наблюдение;
- мораторий на поспешные выводы и моральные сопоставления «чужого» со «своим»;
- отсутствие предвзятых мнений и предрассудков относительно исследуемой культуры;
- искреннее намерение проникнуть в то, как члены данного общества сами понимают и интерпретируют окружающий их мир, социальные институты, традиции, символы, ритуалы и т. д.
Все это прекрасно систематизировано и обосновано Ф. Боасом и его последователями263.
ТММ требует от политолога-международника навыков социальной и культурной антропологии, без которых ни одно его заключение относительно политических структур той или иной цивилизации и соотношения этих структур между собой не будет иметь валидности и научной ценности.
Поэтому прикладные вопросы, сопряженные с проблемой суверенитета, его носителя и его структуры требуют предварительно углубленного осмысления цивилизационного поля.
В качестве удобной формализации для точной фиксации того, где конкретно располагается стратегический полюс в цивилизации, может быть использована процедура, предложенная К. Шмиттом для определения суверенитета. «Суверенен тот, кто принимает решение в условиях чрезвычайного положения264», — утверждает он. Чрезвычайно положение — это ситуация, когда правовой кодекс, отвечающий за упорядочивание вопросов правления в обычных типовых обстоятельствах, перестает действовать и не способен служить опорой для выбора того или иного поведения, предполагающего включенность в него значительной группы людей и масштабные социальные последствия. Это определение К. Шмитта является удобным инструментом для локализации центра власти в проблематичных исторических условиях. Если пользоваться этим критерием, то любое принятие решения в чрезвычайных обстоятельствах означает автоматически локализацию полюса суверенитета. Тот, кто принимает решение в чрезвычайных обстоятельствах, тот суверенен — даже в том случае, если у него не хватает легальности или легитимности с правовой точки зрения. И наоборот, тот, кто не принимает решения в чрезвычайных обстоятельствах, не суверенен, даже при наличии у него формальной легальности и легитимности.
Так появляется конкретный параметр для определения местонахождения суверенной инстанции практически в любой политической системе — и там, где власть действует открыто и прозрачно (potestas directa), и там, где она действует косвенно и тайно (potestas indirecta)265. Поэтому в цивилизации при естественной для нее неопределенности и комплексности социальных слоев внутри общего контекста месторасположение суверена, Князя, определяется через фактическую локализацию источника принимаемых решений, а не наоборот. Кто решает в чрезвычайных обстоятельствах, тот и Князь, тот и является носителем суверенитета.
Это замечание относительно решения позволяет отнестись к цивилизации как к системе, открытой для истории и насыщенной мощной экзистенциальной энергией. В какой-то момент любой цивилизации в стихии многополярного мира приходится принимать решение. И всякий раз инстанция этого решения может теоретически всплывать в различном сегменте цивилизации. Это чрезвычайно усложняет структуру международного права, делает ее отчасти спонтанной и «окказионалистской» (ad hoc). Но вместе с тем это освобождает естественную и наполненную внутренней силой, potestas, стихию исторического бытия от необходимости постоянно взламывать быстро остывающую систему легальных нормативов, превращающихся в ограничения и стесняющие ток живой и непредсказуемой истории.
Здесь понятие «хаоса международных отношений», наличествующее и в классических парадигмах, является вполне уместным и релевантным. «Хаосом» среда международных отношений в контексте ТММ является в той мере, в какой она позволяет решению манифестироваться в любой точке цивилизации — предсказуемой или нет. Канализация решения и обуздание его стихии, формализация и легитимация власти — все это внутреннее дело каждой цивилизации. Но теоретически следует рассматривать суверенитет не как правовое уложение, а как функцию от самого факта решения, принятого в чрезвычайных обстоятельствах. В таком случае стратегические полюса цивилизаций будут постоянно иметь дело с серией спонтанных вызовов, и драма истории обретет насыщенный, органический и динамичный характер — в отличие от той рутины, военной или пацифистской, в которую превратились международные отношения в Вестфальскую эпоху или в условиях двухполярного мира, и печальным апогеем чего являются слабовольные утопии глобализации.
Точка принятия решения в чрезвычайных обстоятельствах — это концентрация исторического духа; не дисперсия анатомических пожеланий и простейших инстинктов, но движение по вертикали интенсивного исторического процесса.
Элита и массы в ТММ
Практически то же самое можно сказать относительно социальной стратификации цивилизаций и выделения в них высших и низших классов, «элиты и массы» по В. Парето. Геометрия социального верха и социального низа в каждой цивилизации может варьироваться. Холизм незападных цивилизаций может быть кастовым, сословным, теократическим, этническим, монархическим, демократическим, смешанным — каким угодно. Теоретически, каким угодно может стать и западное общество, хотя на основании эмпирических наблюдений можно предположить, что оно сохранит и в будущем свои индивидуалистические и либеральнодемократические установки и тенденции к дисперсии социального тела в сторону атомизации и гражданского общества. И это полное право Запада — организовывать свое общество в соответствии с собственной волей. Демократизация и дисперсия властных полномочий, однако, не отменяет принципиально классового неравенства и огромного зазора между сверхбогатой элитой и всеми остальными гражданами. Поэтому классовое неравенство, в ХХ веке старательно прикрываемое ростом среднего класса, который в последнее время резко затормозился, в свою очередь, конструирует элиты и массы Запада в духе тех иерархий, которые подробно описаны и раскритикованы марксистами. Элиты и массы Запада формируются по классовому критерию. Запад считает это «нормальным» и «справедливым», а остальные формы иерархизации отвергает как «негуманные», «варварские» и «недемократические».
В отношении своего общества Запад имеет все основания принимать любые политические решения. Но в отношении незападных обществ в многополярном мире компетенции морального судьи у Запада исчерпываются. Люди европейской культуры Нового времени считают, что материальное неравенство «справедливо», а социальное нет. Представители других цивилизаций, например индусской, придерживаются совершенно иного мнения. Логика «дхармы» и законы «артхи» приводят индуса к справедливости совершенно иного рода: справедливо следовать традиции, в том числе кастовой, и несправедливо ее нарушать. Благородный бедняк, исполняющий карму, перерождается в высшем мире. Нерадивый богач имеет все шансы перевоплотиться в свинью. И это справедливо. А вторжение западных критериев в структуры традиционного общества есть верх несправедливости и типично колониальная и расистская в своих корнях практика.
Также несправедливым для мусульман является взимание банковского процента (т. к. время принадлежит Аллаху, и деньги не могут порождать деньги во времени — это кощунство и святотатство, посягательство на прерогативы Господа миров). При этом стратификация исламского общества может представляться неприемлемым индуистам, а китайцыконфуцианцы могут распознать в буддизме «завуалированный анархизм» и «асоциальность».
Элиты и массы, верхи и низы есть в любой цивилизации. И они имеют свои функции в общем целом социального тела в соответствии с нормативной конфигурацией этого тела. В некоторых случаях они могут оказывать влияние на внешнюю политику и выступать в роли «компетентных групп» (в отличие от уверенности классических реалистов в том, что λ-индивидуум, представитель массы, обладает нулевой компетенцией в международных вопросах), в других случаях не могут, и тогда их доля влияния на международные отношения ничтожна. Но этот вопрос снова зависит от случая рассматриваемой конкретной цивилизации. Ни неолиберальные концепты относительно неуклонного и гарантированного роста компетенции масс в международных отношениях, ни реалистский скепсис на этот счет неприменимы в качестве норматива в ТММ.
Социальная стратификация обществ в рамках цивилизации не является международной проблемой, не имеет универсальной формы и дисконтируется через стратегический центр цивилизации, каким бы причудливым образом он бы ни был составлен: правительство, парламент, император, правящая партия, союз духовных лидеров и т. д. Легитимным этот центр делает само социальное тело, цивилизационный холос.
Диалог и война цивилизаций
Теперь опишем в общих чертах, как ТММ рассматривает проблему войны в МО. Война — это свойство человеческой истории и постоянно встречающееся в ней событие. Более того, согласно общепринятой концепции, именно войны и революции делают историю историей. Практически все известные Государства были созданы войнами или возникли в ходе военных походов. Войны же положили основу практически всем существующим исторически элитным группам. Война, по Гераклиту, «есть отец всех вещей, в одних она обнаруживает богов, в других — людей, в одних — рабов, в других — свободных». Полис как Государство и политика как управление полисом всегда были тесным образом сопряжены со стихией войны и по внутреннему устройству, и в отношении главной задачи обеспечения безопасности, и с точки зрения перспектив завоевательных походов на того или иного внешнего противника.
Стремиться к прекращению войн — все равно, что стремиться к упразднению истории или исчезновению человека и человеческого общества. Минимализировать риск войны или вообще избавиться от него может быть задачей определенных культур, социальных или гендерных типов (женщины не склонны к стихии войны и рассматривают ее чаще всего как катастрофу и чисто негативное явление). Но наблюдение за историей человеческих обществ показывает, что мир и война являются циклически чередующимися явлениями, сменяющими друг друга в определенной последовательности, какими бы короткими или длительными ни были интервалы.
Поэтому ТММ не исключает возможности войны (столкновения) между цивилизациями, но при этом не считает, что это является единственным возможным сценарием.
Здесь следует обратиться к концепции диалога. Диалог — это по-гречески «разговор, осуществляемый с кем-то другим», где высказывание передается (δια — от одного к другому). Диалог может выражаться в словах, но может и в жестах. И слова и жесты могут быть мирными или агрессивными, в зависимости от ситуации. Диалог может быть жестким. В конце концов, война также способна быть формой диалога, в ходе которого одна сторона в жесткой форме что-то сообщает другой.
Диалог совсем не обязательно предполагает равенство говорящих. Сама структура человеческого языка иерархична, и поэтому произнесение фраз в диалоге вполне может носить характер развертывания воли к власти или стратегии доминирования. Это еще раз подтверждает, что войну также можно рассматривать как диалог.
В ТММ между цивилизациями по умолчанию развертывается именно диалог, который можно рассмотреть в двух экстремумах — мирный диалог и немирный диалог. Но в любом случае речь идет именно о сообщении, об общении одного и другого, о коммуникации, а соответственно, о социализации цивилизации или нескольких цивилизаций одновременно в общей системе международных отношений. Диалог цивилизации ведут между собой постоянно. Подчас он занимает целые тысячелетия, на протяжении которых народы, культуры и религии смешиваются друг с другом, переплетаются, сближаются, поглощают друг друга, разделяются и удаляются друг от друга и т. д. Поэтому нельзя начать диалог между цивилизациями и нельзя его прекратить. Он ведется сам по себе, и всю человеческую историю можно рассмотреть как непрерывно длящийся диалог.
Но цивилизация становится главным актором международных отношений лишь в определенных ситуациях. Согласно ТММ, сегодня мы живем именно в такой ситуации, а следовательно, структура диалога цивилизаций требует, в свою очередь, нового осмысления и повышенной рефлексии. Этот диалог именно сегодня нуждается в формализации. Как, о чем и для чего ведут между собой диалог цивилизации?
Диалог цивилизаций есть конституирование базовой пары идентичностей — «мы» и «они», что является неотъемлемым свойством любого общества. Общество способно осознать себя как себя только перед лицом другого общества, осознанного как другое. Поскольку цивилизация является максимально сложной системой общества, состоящего, в свою очередь, как из иерархических, так и из рядоположенных слоев и пластов, то степень этой цивилизационной рефлексии относительно своей идентичности требует особого инструментария, качественно намного более сложного, нежели модели и процедуры идентификации иных базовых единиц. Цивилизационная идентичность и для утверждения самой себя, и для противопоставления себя другому, и, соответственно, для формирования образа другого требует в наивысшей степени усложненной рефлексии. Этот уровень, как правило, выражается в особой философии или теологии, духовной традиции, сконцентрированной в интеллектуальных элитах, но по касательной расходящейся на все слои общества вплоть до самых его глубин. То, что является философией или теологией для элит, становится типичными видами ментальности, психологией и усредненным культурным типом для масс. Но на всех уровнях — от острого осознания философских основ до самых инерциальных и неосознанных ментальных и психологических клише, через исторические события, политические реформы, достижения искусства и науки и хозяйственные практики — идентичность цивилизации утверждается и, утверждаясь как таковая, обязательно контрастирует с идентичностью других соседних цивилизаций. Это и есть диалог цивилизаций: постоянное сравнение своего и чужого, обнаружение общих свойств или, напротив, различий, обмен отдельными элементами, отвержение других, вскрытие смыслов или семантические сдвиги, искажающие элементы другой цивилизации. В определенных случаях наличие другого становится основанием для войн. В других — диалог развивается мирно и конструктивно.
Цивилизации ведут между собой диалог о постоянно переопределяемом балансе своего и чужого, идентичности и инаковости. Этот диалог не имеет никакой конечной цели, т. к. не ставит перед собой задачи убедить другого в своей правоте, и тем более, в принятии образа другого как нормативного для себя (хотя в некоторых случаях — крайней экспансии и, напротив, крайней пассивности могут быть и такие сценарии). Но смысл заключается не в достижении цели, а в наличии самого диалога, который в условиях открытого исторического процесса всегда облекает себя в череду исторических событий, вспыхивающих в разных сферах — от религиозных и политических реформ, появления новых философских теорий до народных волнений, династических переворотов, военных походов, циклов экономического подъема и упадка, новых открытий, экспансий и сжатий, этнических передвижений и т. д. В диалоге участвует вся многоуровневая структура цивилизации, и он ведется на всех ее этажах.
Однако формализуется этот диалог в интеллектуальной элите, которая способна емко отрефлектировать, определить параметры как своей идентичности, так и идентичности другого. В значительной степени она и конфигурирует образ другого, наделяет его теми или иными чертами, корректно или некорректно разгадывает семантические блоки той цивилизации, с которой находится в состоянии диалога.
При повышении уровня формализации цивилизации существенно возрастает и роль интеллектуальной элиты, которая становится носителем диалога цивилизаций не просто по инерции, но по своей функции. И эта функция приобретает важнейшее международное измерение, т. к. от структуры диалога цивилизаций зависит напрямую сама структура международных отношений в многополярном мире. Если стратегический полюс есть инстанция принятия решений и точка суверенитета цивилизации, то содержательный, смысловой центр цивилизации сосредоточивается в ее интеллектуальной элите, которая в условиях многополярности резко повышает свой статус в области международной жизни. Эта элита уполномочивается насыщать многополярность смысловым содержанием и развертывать содержательные процессы, конститутивные для среды международных отношений, а следовательно, для истории человечества.
В диалоге цивилизаций интеллектуальная элита должна осуществлять дисконт всех стальных факторов — экономических, технологических, материальных, ресурсных, логистических и т. д. Знак, образ, концепт, философская теория, теологическая экзегеза представляют собой главное синтетическое послание от одной цивилизации к другой. И от того, каким будет это послание в каждом отдельном случае, во многом будет зависеть изгиб мировой истории — война или мир, конфликт или сотрудничество, упадок или взлет.
Диалог, о котором идет речь, не может быть сведен к конкуренции, к установлению гегемонистских отношений, к убеждению в своей правоте одних или других и т. д. Диалог цивилизаций — это нередуцируемое фрактальное поле свободной и спонтанной истории, непрограммируемой и непредсказуемой, т. к. будущее в таком случае рассматривается как конструируемый горизонт мышления и воления. Мышление относится к зоне компетенции интеллектуальной элиты цивилизации, воление — к стратегическому полюсу и точке решения. Вместе оба эти начала составляют голограмму цивилизации, ее живое символическое средостение, солнечное сплетение цивилизационных нервов.
Не власть, не хозяйство, не материальные ресурсы, не конкуренция, не безопасность, не интересы, не комфорт, не выживание, не гордость, не агрессивность являются базовой мотивацией исторического бытия цивилизации в условиях многополярного мира, но именно процесс духовного диалога, который на любом повороте и при любых обстоятельствах может приобрести как позитивный и мирный, так и агрессивный и воинственный характер. «Духовные битвы, — как писал А. Рэмбо в “Сезонах в аду”, — столь же жестоки, как человеческие сражения»266. Очевидно, что современная западная цивилизация устала от истории и больше не вдохновляется высокими горизонтами ее свободы. Отсюда и стремление как можно быстрее с ней покончить, закрыв исторический процесс. Но специфика ТММ в том и состоит, чтобы открыть и отвоевать возможность смотреть на мир, на время и эпоху не только глазами Запада; а это значит, что диалог цивилизаций осмысляется не как нечто механическое, рутинное и ставящее перед собой только одну цель — «чтобы не было войны», но как нечто насыщенное, живое, непредсказуемое, напряженное, содержательное, рискованное и с открытым и неизвестным финалом.
Дипломатия: антропология и традиционализм
В классических теориях МО выделяется специальная группа уполномоченных лиц, которые занимаются планированием и реализацией внешней политики Государства. Речь идет о дипломатическом корпусе. Значение его в международных отношениях очень велико, т. к. от компетентности и эффективности дипломатов в значительной мере зависит вся структура международных отношений. Не дипломаты определяют внешнеполитический курс. Это решение, как правило, находится на уровне главы Государства или иного руководящего органа. Но дипломатический корпус претворяет решения в жизнь, и от того, с каким искусством дипломаты справляются с поставленной задачей, часто в международных отношениях зависит очень и очень многое. Потому в Вестфальской системе занятие дипломатией предполагало специальную подготовку, знакомство с различными странами и национальной психологией, особые навыки поведения и манеру переговоров. Чаще всего дипломаты представляют собой элиту общества и рекрутируются в его высших слоях.
Многополярность выдвигает к дипломатическому корпусу дополнительные требования. Межцивилизационные отношения сводятся к диалогу. И в мирное время этот диалог получает свою наибольшую формализацию в действиях именно дипломатического корпуса, представляющего одну цивилизацию перед лицом другой. Поэтому дипломатия в контексте ТММ приобретает новое качественное измерение: на нее возлагается миссия искусного ведения межцивилизационного диалога. Мы видели выше, что в ТММ за такой диалог ответственна интеллектуальная элита цивилизации. Соответственно, дипломатический корпус должен быть интегральной частью этой элиты. Принадлежность к интеллектуальной элите предполагает глубокую степень рефлексии относительно идентичности собственной цивилизации, включая все ее многомерные и разнообразные слои и нелинейные закономерности. Поэтому представитель интеллектуальной элиты по определению должен отличаться незаурядными навыками в области философии (или / и теологии). Это требование целиком и полностью распространяется и на дипломатов. Но при этом от дипломатов, выступающих от имени цивилизации, требуется и еще одна важейшая компетенция. Это способность понять структуру другой цивилизации, с которой данная вступает в диалог, а соответственно, освоить или создать заново корректную систему перевода (пусть приблизительного) смыслов из контекста одной цивилизации в контекст другой. Кроме рефлексии своей идентичности, дипломат многополярного мира должен обладать способностью охватывать и иную идентичность, проникать в нее на критически важную для взаимопонимания глубину. Для этого требуется владение особой топикой, которая могла бы быть апроксимативно общей для самого разного цивилизационного контекста.
В этой связи надо сразу отбросить западный гегемонизм, претендующий на универсальное объяснение основных социальных, политических и мировоззренческих установок (на базе критериев и норм самой западной цивилизации). Западные версии гуманитарных дисциплин (философии, истории, социологии, права, политологии, культурологии и т. д.) насквозь пронизаны этноцентризмом и стремлением к эпистемологической гегемонии. Поэтому ссылка на эту базу заведомо выводит нас из контекста многополярности и при видимом удобстве обращения к проработанным западным систематизациям культур и философий этот самый простой путь оказывается самым долгим и ведущим в никуда, т. е. неприемлемым. Его следует отбросить как заведомо непригодный для формирования дипломатического корпуса многополярного мира.
Лишь на периферии западной науки и философии можно найти некоторые методики и теории, которые могли бы послужить важным концептуальным подспорьем для воспитания профессиональных участников диалога цивилизаций. В первую очередь это культурная и социальная антропология267, представители которой разработали методики изучения архаических обществ, поставив перед собой цель — заведомо избавиться от проекции западоцентричных теорий на социальные объекты исследования. Антропологи разработали систему правил, позволяющую максимально приблизиться к жизненному миру незападных обществ, выяснить структуры их символических и мифологических представлений, разобраться в сложных и не лежащих на поверхности таксономиях (часто резко контрастирующих с привычными для западного человека систематизациями). При этом в рамках западной науки антропологические методы применяются почти исключительно к бесписьменным культурам, предоставляя анализ более сложных обществ (собственно цивилизаций) классическим дисциплинам — философии, истории, социологии, религиоведению и т. д.
В контексте многополярного мира данный антропологический подход может быть с успехом применен к исследованию цивилизаций. И если строго соблюдать правила культурной антропологии, есть шанс получить специалистов и интеллектуалов, по-настоящему не зависимых от эпистемологической гегемонии Запада и при этом способных глубоко постичь цивилизационные коды, отличные от своих собственных, и деконструировать идентичности и комплексы идентичностей, им свойственные.
Дипломатия в ТММ должна быть жестко привязана к антропологии, и дипломатические компетенции должны основываться на искусном владении базовыми навыками антропологического праксиса.
Вторым способом систематизировать межцивилизационную дипломатию в условиях многополярного мира является традиционалистская философия268. Большинство существующих сегодня цивилизаций представляют собой разновидности традиционных обществ с относительно неглубокой степенью модернизации. А в традиционном обществе религия, сакральное, символ, ритуал и миф играют, как известно, решающую роль. Различные религии основываются на собственных оригинальных теологических комплексах, которые либо несводимы к другим комплексам, либо сводимы, но с огромными натяжками, искажающими изначальный смысл. Попытки построить синкретические модели для облегчения межконфессионального диалога ни к чему не приведут, т. к. немедленно столкнутся с противостоянием консервативной ортодоксии и вызовут лишь волну протеста в самих цивилизациях. Поэтому ни секулярная (западная) база, ни религиозный синкретизм не могут быть взяты за основу дипломатической практики в области межконфессионального общения, к которому в значительной мере будут сводиться наиболее значимые и важные аспекты диалога цивилизаций.
В такой ситуации есть только один выход: взять за основу философию традиционализма (Р. Генон, Ю. Эвола, М. Элиаде и т. д.), которая представляет собой проект выявления семантической карты, общей для традиционного общества как такового — особенно в его оппозиции секулярному, западному обществу эпохи Модерна269. Но и само это секулярное общество Запада анализируется традиционалистами с позиций общества традиционного270, что делает такой метод оптимальным для большинства цивилизаций.
Полноценный и семантически корректный диалог между цивилизациями можно выстроить только на основании традиционалистской философии.
Выделив главные направления многополярной дипломатии, мы получаем теоретическую основу для ее становления. Остальные компетенции — знакомство с технологическими условиями другой цивилизации, военно-техническими и стратегическими аспектами, демографией, экологией, социальными и миграционными проблемами и т. д. — естественно входят как необходимое условие в подготовку профессиональных дипломатов. Но диалог цивилизаций предполагает в первую очередь установление канала корректной передачи смыслов. Без этого канала весь комплекс технических знаний будет лишен солидной базы и станет представлять собой бесполезное или искаженное знание. Не вопросы мира и войны, торговли или блокады, миграции или безопасности, экономических санкций или торгового оборота должны стоять во главе дипломатии многополярного уклада, но вопросы смысла философии, циркуляции идей (в платоновском смысле). Поэтому дипломатия должна превратиться в своего рода сакральную профессию.
Экономика в ТММ
По правилам современного дискурса, ни одной теории и ни одного проекта не может обойтись без экономической программы и соответствующих ей расчетов и исчислений. Закономерно встает вопрос: на какой экономической модели будет основываться многополярность?
В случае однополярного или глобального мира мы имеем строго определенный ответ: современная мировая экономика представляет собой капиталистическую систему, и в будущем любые проекты будут строиться на этой основе. При этом стало практически аксиомой, что сегодня капитализм вступил в свою третью фазу развития271 (постиндустриальная экономика, информационное общество, экономика знаний, турбокапитализм по Э. Лютваку и т. д.), для которой характерны:
- качественная доминация финансового сектора над промышленным и аграрным;
- диспропорциональный рост удельного веса фондовых рынков, хэджфондов и иных чисто финансовых институций;
- высокая волатильность рынков;
- развитие транснациональных сетей;
- поглощение третичным сектором (сектором услуг) вторичного (производство) и первичного (аграрное хозяйство);
- делокализация промышленности из стран «богатого Севера» в страны «бедного Юга»;
- глобальное разделение труда и рост влияния транснациональных корпораций;
- резкий прогресс высоких (высокоточных и информационных) технологий;
- повышение значения виртуального пространства для развития экономических и финансовых процессов (электронные биржи и т. д.).
Такова картина мировой экономики настоящего и, если все будет двигаться по инерциальному сценарию, — ближайшего будущего. Однако такая экономическая модель несовместима с многополярностью, т. к. в ее основе лежит имплементация западных кодов ведения хозяйства на общепланетарном уровне, гомогенизация экономических практик всех обществ, стирание цивилизационных отличий, а следовательно, упразднение цивилизаций в единой космополитической системе, действующей по универсальным правилам и протоколам, сформулированным и примененным впервые капиталистическим Западом в собственных интересах. Современная глобальная экономика есть гегемонистское явление. Это убедительно описывают неомарксисты в МО, но в целом признают и реалисты, и либералы. Против этого в значительной мере направлены постпозитивистские теории (критическая теория и постмодернизм). Сохранение такой экономической системы несовместимо с реализацией многополярного проекта. Поэтому ТММ должна обратиться к альтернативным экономическим теориям.
В этой связи полезно внимательно присмотреться к марксистской и неомарксистской критике капиталистической системы и к анализу заложенных в ее основании противоречий, а также к выявлению и прогнозированию природы неизбежных кризисов272. Марксисты часто говорят о системном крахе капитализма и видят его проявления в волнах экономического кризиса, потрясшего человечество, начиная с 2008 года после краха американской ипотечной системы. Хотя сами марксисты полагают, что финальный кризис капитализма должен наступить только после окончательной интернационализации мир-системы и двух глобальных классов (мировой буржуазии и мирового пролетариата), их интерпретация кризисов и прогнозирование их интенсификации является весьма реалистичными. В отличие от марксистов, сторонники ТММ не должны откладывать многополярность на период, последующий после финального аккорда глобализации. Вполне возможно, что ближайшие кризисы нанесут по мировой капиталистической системе фатальный удар, не дожидаясь окончания глобализации и космополитизации классов. Это вполне может привести к полномасштабной Третьей мировой войне. Но в любом случае мировая экономическая модель, существующая сегодня, скорее всего в самое ближайшее время столкнется с фундаментальным и необратимым кризисом. И вероятно, перестанет существовать, по крайней мере в том виде, в котором она есть сегодня273. Последние границы экспансии новой экономики и постиндустриального уклада видны сегодня, и нетрудно заметить, что через несколько шагов, скорее всего, этой системе предстоит коллапс.
Что может противопоставить ТММ в сфере экономике постиндустриализму?
Ориентирами в этом вопросе должны быть:
- ниспровержение капиталистической гегемонии Запада;
- отвержение претензий либеральной экономики и рыночной модели на универсализм и глобальный самоочевидный норматив и, соответственно,
- экономический плюрализм.
Многополярная экономика должна основываться на признании различных полюсов и на экономической карте мира.
Поиски экономических альтернатив следует искать в философском поле, отвергающем или, по меньшей мере, релятивизирующем значение материального, гедонистического фактора. Признание материального мира главным и единственным, материального благополучия — высшей общественной, культурной и духовной ценностью неминуемо приведет нас к капитализму и либерализму, т. е. к согласию с правомочностью экономической гегемонии Запада. Даже если незападные страны захотят обернуть экономические процессы в свою пользу и подорвать монополию Запада на контроль в области рыночной экономики в глобальном масштабе, рано или поздно логика капитала навяжет незападным странам и соответствующим цивилизациям все те же нормативы, которые существуют и сегодня. В этом марксисты правы: у капитала есть своя логика, и стоит только принять ее, как она приведет социальную и политическую систему к буржуазному образцу, тождественному западному. Поэтому выступать против гегемонии «богатого Севера» и выражать верность капиталистической системе является полным противоречием и фундаментальной концептуальной преградой на пути построения истинной многополярности.
Американский социолог П. Сорокин отчетливо видел границы материалистической западной цивилизации, которую он называл «чувственной» социокультурной системой274. С его точки зрения, экономоцентричное общество, основанное на гедонизме, индивидуализме, консьюмеризме и комфорте, обречено на скорое исчезновение. А на смену ему придет идеационное275 общество, ставящее во главе угла радикально духовные и отчасти антиматериальные ценности. Этот прогноз может быть путеводной нитью для ТММ в ее отношении к экономике в целом. Если мы видим в многополярности именно завтрашний день, а не продолжение дня сегодняшнего, мы должны последовать за этой интуицией великого социолога.
Сегодня большинство западных и незападных экономистов убеждены, что альтернативы рыночной экономике нет. Такая уверенность равнозначна уверенности в том, что все общества движутся влечением к материальному комфорту и консьюмеризму, а следовательно, ни о какой многополярности речи быть не может. Стоит только признать, что экономика — это судьба, мы автоматически признаем, что либеральная экономика — это судьба; в таком случае экономическая гегемония «богатого Севера» становится естественной, оправданной и легитимной. Остальным странам остается только «догоняющее развитие», которое в структуре мир-системы приведет к глобализации, классовому расслоению и стиранию границ цивилизаций (здесь И. Валлерстайн совершенно прав).
Отсюда следует логический вывод: экономическая модель многополярного мира должна строиться на отвержении экономоцентризма и на постановке экономических факторов ниже социальных, культурных, религиозных и политических. Не материя, но идея является судьбой, а следовательно, не экономика должна диктовать, что делать в политической сфере, а политическая сфера должна доминировать над экономическими мотивациями и структурами. Без релятивизации экономики, без подчинения материального духовному, без превращения хозяйственной сферы в подчиненное и второстепенное измерение цивилизации в целом многополярность недостижима.
Следовательно, ТММ должна отвергнуть все типы экономоцентрических концепций — как либеральных, так и марксистских (поскольку в марксизме экономика также мыслится как исторический фатум). Антикапитализм, и особенно антилиберализм, должны стать направляющими векторами становления ТММ.
В качестве позитивных ориентиров следует взять широкий спектр альтернативных концептов, которые до настоящего времени оставались маргинальными среди классических экономических теорий (по вполне понятным гегемонистским причинам).
В качестве первого шага по деструкции мировой экономической системы как она есть сегодня, вероятно, следует обратиться к теории «автаркии больших пространств» (Ф. Лист)276, что предполагает создание закрытых экономических зон на территориях, относящихся к общей цивилизации. По периметру этих территорий предполагается выстраивание таможенных барьеров, которые формируются таким образом, чтобы стимулировать в рамках данной цивилизации производство необходимого минимума товаров и услуг, требующегося для обеспечения нужд населения и развития внутреннего производственного потенциала. Внешняя торговля между «большими пространствами» сохраняется, но организуется таким образом, чтобы ни одно из «больших пространств» не становилось зависимым от внешнеторговых поставок. Это гарантирует реструктуризацию всей экономической системы в каждой из цивилизаций в соответствии с региональными особенностями и требованиями внутреннего рынка. Так как цивилизации, по определению, представляют собой демографически весомые зоны, то в перспективе имеющегося внутреннего рынка будет вполне достаточно для интенсивного развития.
Одновременно следует сразу поставить вопрос о создании системы региональных валют и об отказе от доллара в качестве мировой резервной валюты. Каждая цивилизация должна выпускать свою независимую валюту, обеспеченную экономическим потенциалом данного «большого пространства». Полицентризм эмиссионных инстанций станет в таком случае прямым выражением экономической многополярности. При этом следует отказаться от какого бы то ни было универсального эталона в межцивилизационных расчетах: курс валют должен определяться качественной структурой внешней торговли между двумя или несколькими цивилизациями.
Во главе угла должна стоять реальная экономика, соотнесенная с объемом конкретных товаров и услуг.
Принятие этих правил создаст предпосылки для дальнейшей диверсификации экономических моделей каждой из цивилизаций. Выйдя из пространства глобального либерального капитализма и организовав «большие пространства» в соответствии с цивилизационными особенностями (пока еще на рыночной основе), в дальнейшем цивилизации смогут сами выстроить экономическую модель в соответствии с культурноисторическими традициями. В исламской цивилизации, вероятно, следует ввести мораторий на банковский рост денег. В других цивилизациях возможны обращения к социалистическим практикам перераспределения прибавочного продукта по той или иной схеме (через управление налоговой системой, по теории французского экономиста Ж.Ш. Сисмонди, или через иные инструменты — вплоть до введения планового хозяйства и дирижистских методов277).
Экономический плюрализм цивилизаций должен выстраиваться поэтапно и без каких бы то ни было универсалистских предписаний. Разные общества могут создавать разные экономические модели — как рыночные, так и смешанные или плановые, как на основе хозяйственных практик традиционного общества, так и на основе новых постиндустриальных технологий. Главное — разрушить либеральный догматизм, гегемонию капиталистической ортодоксии и подорвать глобальную функцию «богатого Севера» как главного бенефициара в организации планетарного распределения труда. Распределение труда должно развертываться только внутри «больших пространств», в противном случае цивилизации окажутся в зависимости друг от друга, что чревато возникновением новых гегемоний.
СМИ в ТММ
Средства массовой информации в современной структуре международных отношений играют огромную роль. Они создают единую планетарную информационную среду, которая все больше влияет на международные процессы. СМИ становятся глобальными и через медийный дискурс способствуют процессам глобализации (в интересах Запада). Глобальные СМИ являются важнейшим инструментом Запада в формировании общественного мнения и являются по сути инструментом глобального управления. Для строительства многополярного мира необходимо начать фронтальную борьбу с глобалистскими СМИ.
Роль СМИ в традиционном обществе является весьма ограниченной. Рост их влияния напрямую сопряжен с Новым временем, буржуазной демократией и гражданским обществом. СМИ являются конститутивным элементом демократии и претендуют на то, чтобы воплощать в себе дополнительное измерение, промежуточное между властью и обществом, элитой и массами. В пространстве медиакратии формируется новая модель нормативного образца, влияющего на массы как завуалированное приказание, учреждающее особую онтологию демократического общества (то, о чем говорится в СМИ, есть; то, о чем СМИ умалчивают, не существует). А для власти СМИ заменяют собой общественное мнение, т. е. являются суррогатом массы. Так, пространство СМИ в теории должно снимать напряжение между верхами и низами общества, переводя их иерархические отношения в горизонтальную плоскость телеэкрана (газетной полосы, компьютера, планшета, мобильного телефона и т. д.). Медиапространство является двойным симулякром: симулякром власти и симулякром общества278.
Глобализация распространяет этот принцип на все человечество, превращая его в глобальный симулякр. В СМИ встречается спроецированная на плоскость реальность мирового правительства и представленная аналогичной проекцией (но только снизу) реальность планетарного общества. Это создает особый виртуальный мир, который воплощает в себе спроектированный капиталом и Западом глобальный гегемонистский конструкт. Независимость СМИ от национальных Государств делает их привилегированной зоной постмодернистских диссипативных структур. Поэтому в этой области переход от Модерна к Постмодерну виден нагляднее всего, и виртуальность заменяет собой реальность наиболее осязаемо.
Глобальные СМИ в незападных цивилизациях задают образцы для национальных СМИ, подстраивая их под общий виртуальный проект. И по мере того, как роль СМИ возрастает, структуры традиционного общества оказываются либо в слепой зоне, либо подвергаются планомерным и систематическим атакам, направленным на их ослабление и размывание.
СМИ по природе своей буржуазны и несут отпечаток западной культуры. Поэтому для строительства многополярного мира необходимо качественно пересмотреть их роль в обществе. На этом пути можно выделить два этапа.
Первый этап состоит в создании сети цивилизационных СМИ, которые служили бы постоянным рупором интеграционных процессов и способствовали бы укреплению цивилизационной идентичности. В этом случае цивилизационные СМИ могли бы подорвать монополию глобальных (и потому подчиненных интересам Запада) СМИ и создать предпосылки для консолидации культурно-социальных групп вокруг оси общей цивилизации.
Второй этап будет заключаться в том, чтобы вернуть СМИ в контекст структур того общества, которое будет построено на цивилизационной основе с учетом особого культурного кода. Нельзя исключить, что в некоторых цивилизациях СМИ вообще могут быть упразднены как явление, т. к. никаких универсальных нормативов в этом вопросе не останется и выбор того, как организовывать отношения власти и общества, элит и масс, будет решаться на основе свободного цивилизационного поиска. Одни цивилизации могут сохранить это пространство «демократического симулякра» и виртуального дубля реальности, другие, вполне вероятно, предпочтут от него отказаться.
Резюме
Представим то, какое содержание получают основные темы и концепты МО в ТММ, в виде обобщающей таблицы.
Темы
Подтемы
ТММ
Акторы
Количество
Несколько полюсов
Субъекты
Цивилизации
Политическая институционализация
Политейя
Структура
Плюральная
Геополитика
Главный геополитический концепт
Большое Пространство
Границы
Полосы /Зоны
Фронтир
Среда международных отношений
Глобальная институция
Отсутствует
Структура
Анархия между цивилизациями
Гегемония
Региональная гегемония, Commonwealth
Князь
Власть
Наш Князь / Princeps nostrum
Иерархия (содержание зависит от конкретной цивилизации)
Суверенитет политейи
Элита
Цивилизационная (духовная) элита
Решение
Компетенция Князя на основе Традиции
Война
Возможность
Открытая
Мир
Внутрицивилизационный
Pax Nostrum
Безопасность
Цивилизационная безопасность
Интересы
Интересы
Цивилизационные интересы
Ценности
Цивилизационные ценности
Могущество
Духовное /материальное
Качественно плюральное (зависит от цивилизации)
Международная ПолитЭкономия
Парадигма
Плюральные парадигмы
Автаркия больших пространств
Разделение труда
Внутри цивилизации
СМИ
Структура
Цивилизационные СМИ
Значение
Второстепенное
Представленные теоретические выкладки являются пролегоменами к полноценной ТММ. Общей задачей в этом разделе было выяснить содержание понятия «многополярность», соотнести ТММ с существующими теориями МО и, таким образом, подойти вплотную к формулировке некоторых базовых принципов этой теории. Проделанный разбор тем можно рассматривать как подготовку почвы для полноценного конструирования развернутой ТММ. Основные магистральные пути такого развертывания в целом намечены. Но детальная разработка этих направлений — дело будущего, это только еще предстоит осуществить.
Плюрализм, заложенный в самой основе многополярного подхода, исключает какую бы то ни было форму догматизма. Бессмысленно спорить относительно деталей многополярного устройства, темпов построения многополярного мира, локализации границ между цивилизациями, нюансов правового оформления новой системы международных отношений. Даже точное количество акторов многополярного мира пока остается открытым вопросом.
Принципиально было осуществить теоретический рывок от предельно расплывчатого и неопределенного употребления термина «многополярность», «многополярный мир» к теоретической базе, в рамках которой он получает вполне конкретное, хотя и открытое для дальнейшего осмысления значение.
Часть 3. Геополитика Многополярного
МираМногополярность
как открытый проектМногополярность и «цивилизация Суши»
(Land Power)В этом разделе мы опишем взгляд на глобализацию и глобализм, который невозможен изнутри «цивилизации Моря», то есть из стихии номинально «глобального мира». Такой взгляд не учитывается ни в антиглобализме, ни в альтерглобализме потому, что он отказывается от самих глубинных философских и идеологических оснований европоцентризма. Такой взгляд отбрасывает веру:
• в универсальность западных ценностей, в то, что западные общества прошли в своей истории единственно возможный путь, который предстоит пройти всем остальным странам;
• в прогресс как в непререкаемую поступательность исторического и социального развития;
• в то, что безграничное техническое, экономическое и материальное развитие и есть ответ на самые насущные нужды всего человечества;
• в то, что люди всех культур, религий, цивилизаций и этносов принципиально такие же, как люди Запада, и управляются теми же антропологическими мотивами;
• в безусловное превосходство капитализма над другими социально-политическими формациями;
• в безальтернативность рыночной экономики;
• в то, что либеральная демократия является единственно приемлемой формой политической организации общества;
• в индивидуальную свободу и индивидуальную идентичность как высшую ценность человеческого бытия;
• в либерализм как в исторически неизбежную, приоритетную и оптимальную идеологию.
Иными словами, мы переходим на позиции «цивилизации Суши» и рассматриваем сегодняшний момент мировой истории с ее точки зрения или теллурократической, как эпизод «великой войны континентов», а не как ее завершение.
Разумеется, трудно отрицать, что современный момент исторического развития демонстрирует ряд уникальных черт, которые при желании можно интерпретировать как победу Моря над Сушей, Карфагена над Римом, Левиафана над Бегемотом. Действительно, никогда в истории «цивилизация Моря» не достигала таких серьезных успехов и не простирала мощь и влияние своей парадигмы в таких масштабах. Конечно, «геополитика Суши» признает этот факт и заложенные в нем последствия. Но она ясно отдает себе отчет в том, что глобализацию можно интерпретировать и иначе — а именно как серию побед в сражениях и битвах, но не как окончательный выигрыш войны.
Здесь напрашивается одна историческая аналогия: когда в 1941 году германские войска подступали к Москве, можно было посчитать, что все потеряно и конец СССР предрешен. Нацистская пропаганда именно так и комментировала ход войны: на оккупированных территориях создается «новый порядок», работают органы власти, создаются экономические и политические инстанции, налаживается социальная жизнь. Но советский народ продолжал ожесточенное сопротивление — как на всех фронтах, так и в тылу противника, планомерно двигаясь к своей цели и к своей победе.
В геополитическом противостоянии Моря и Суши сейчас именно такой момент. Внутри «цивилизации Моря» информационная политика выстроена так, чтобы ни у кого не зародилось сомнения, что глобализм есть свершившийся факт и глобальное общество в основных чертах состоялось, что все преграды отныне носят технический характер. Но с определенных концептуальных, философских, социологических и геополитических позиций все это можно оспорить, предложив совершенно иное видение ситуации. Все дело в интерпретации. Исторические факты не имеют смысла без интерпретации. Точно так же и в геополитике: любое положение дел в сфере геополитики имеет смысл только в той или иной интерпретации. Глобализм сегодня интерпретируется почти исключительно в атлантистском ключе. И тем самым в него вкладывается «морской» смысл. Взгляд с позиции Суши меняет не положение дел, но его смысл. А это во многих случаях имеет решающее значение.
Далее мы представим взгляд на глобализацию и глобализм с позиции Суши — геополитический, социологический, философский и стратегический.
Основания для существования «геополитики Суши» в глобальном мире
Чем можно обосновать саму возможность взгляда со стороны Суши на глобализацию, при том, что, как мы показали, структура глобального мира предполагает маргинализацию и фрагментаризацию Суши?
Для этого есть несколько оснований.
Человеческий дух (сознание, воля, вера) всегда способен сформулировать свое отношение к любому окружающему явлению. И даже если это явление представляется необоримым, всеобъемлющим, «объективным», его можно принять или отвергнуть, оправдать или осудить. В этом состоит высшее достоинство человека и его отличие от животных видов. И если человек отвергает и осуждает нечто, он вправе строить стратегии преодоления в любых, самых тяжелых и непреодолимых, ситуациях и состояниях. Наступление глобального общества может быть принято и одобрено, а может быть отторгнуто и осуждено. В первом случае мы плывем по воле волн истории, во втором — ищем «точки опоры», чтобы остановить этот процесс. История делается людьми, и дух здесь играет центральную роль. Следовательно, существует теоретическая возможность создания теории, радикально противоположной тем взглядам, которые выстраиваются на основе «цивилизации Моря» и принимают основные парадигмы западного взгляда на вещи, ход истории, логику смены социально-политических ситуаций.
Геополитический метод позволяет идентифицировать глобализацию как субъективный процесс, связанный с успехами одной из двух глобальных сил. Как бы «маргинальна и фрагментаризирована» ни была Суша, она имеет за собой серьезные исторические основания, традиции, опыт, социологические и цивилизационные предпосылки. Геополитика Суши выстроена не на пустом месте: это традиция, обобщающая фундаментальные исторические, географические и стратегические тенденции. Поэтому даже на теоретическом уровне оценка глобализации с позиции «геополитики Суши» абсолютно правомочна.
Точно так же, как в центре глобализации стоит ее «субъект» (мондиализм и его структуры), у цивилизации Суши может быть и есть свое субъектное воплощение. Несмотря на гигантский масштаб и массивные формы исторической полемики цивилизаций, мы имеем дело в первую очередь с противостоянием умов, идей, концепций, теорий, а лишь затем — материальных вещей, аппаратов, технологий, финансов, вооружений и т. д.
Процесс десуверенизации национальных государств пока не стал необратимым, и элементы Вестфальской системы частично сохраняются. Это значит, что ряд национальных государств в силу определенных соображений все еще может делать ставку на проведение сухопутной стратегии, то есть может полностью или частично отвергнуть глобализацию и парадигму «цивилизации Моря». Примером этого является Китай, который балансирует между глобализацией и собственной сухопутной идентичностью, жестко следя за тем, чтобы общее равновесие сохранялось и из глобальных стратегий было заимствовано только то, что укрепляет Китай как суверенное геополитическое образование. То же самое можно сказать и о тех государствах, которые США приравняли к «оси зла» (Иран, Куба, Северная Корея, Венесуэла, Сирия и др.). Конечно, угроза прямого вторжения войск США дамокловым мечом висит над этими странами (по примеру Ирака или Афганистана), а изнутри они непрерывно подвергаются тонким сетевым атакам. Но в настоящий момент их суверенитет сохраняется, что делает их привилегированными зонами для развития цивилизации Суши. Сюда же можно отнести ряд колеблющихся стран — таких, как Индия, Турция и др., которые, будучи значительно вовлечены в орбиту глобализации, сохраняют самобытные социологические черты, приходящие в противоречие с официальными установками правящих режимов. Такая ситуация свойственна многим азиатским, латиноамериканским и африканским обществам.
И наконец, самое главное — нынешнее состояние Heartland’а. От него зависит, как мы знаем, господство над миром, реальность или эфемерность однополярной глобализации. Heartland в 1980–1990-е годы фундаментально сократил зону своего влияния. Из него вышли последовательно два геополитических пояса — Восточная Европа (страны которой входили в «социалистический лагерь, «Варшавский договор», СЭВ и т. д.) и Союзные Республики СССР. К середине 1990-х в Чечне началось кровавое тестирование возможности дальнейшего членения России на «национальные республики». Эта фрагментация Heartland’а вплоть до мозаики марионеточных несамостоятельных государств на месте России должна была стать финальным аккордом построения глобального мира и «конца истории», после чего говорить о Суше и «геополитике Суши» было бы гораздо сложнее. Heartland имеет центральное значение в возможности стратегической консолидации всей Евразии и, следовательно, «цивилизации Суши». Если бы процессы, происходящие в России в 1990-е годы, пошли своим чередом и ее распад продолжился бы, ставить под вопрос глобализацию было бы намного труднее. Но в России с конца 1990 — начала 2000-х годов произошел перелом, распад был остановлен; федеральная власть восстановила контроль над мятежной Чечней. В. Путиным была проведена правовая реформа субъектов Федерации (связанная со снятием статьи о «суверенитете», с назначением губернаторов из центра и т. д.), которая укрепила вертикаль власти в пространстве всей России. Начали набирать обороты интеграционные процессы в СНГ. В августе 2008 года в ходе пятидневного конфликта России с Грузией Россия установила прямой стратегический контроль над территориями, находящимися за пределом Российской Федерации (Южная Осетия, Абхазия), и признала их независимость, несмотря на огромную поддержку Грузии со стороны США и стран НАТО и давление международного общественного мнения. В целом Россия как Heartland с начала 2000-х годов приостановила процессы самораспада, укрепила энергетику, упорядочила вопросы поставки энергоресурсов за рубеж, отказалась от практики одностороннего сокращения вооружений, сохранив свой ядерный потенциал. При этом влияние сети геополитической агентуры атлантизма и мондиализма на политическую власть и принятие стратегических решений качественно ослабло, укрепление суверенитета было осмыслено как первоочередная задача, и интеграция России в ряд глобалистских структур, угрожающих ее самостоятельности, была приостановлена. Одним словом, Heartland продолжает оставаться основой Евразии, ее «ядром» (Core) — ослабленным, понесшим серьезнейшие потери, но все же существующим, независимым, суверенным, способным проводить политику если не в глобальном, то в региональном масштабе. В своей истории Россия несколько раз падала еще ниже: удельная раздробленность начала XIII века, Смутное время, события 1917–1918 годов показывают нам Heartland в еще более плачевном и ослабленном состоянии. Но всякий раз через какой-то срок Россия оживала и возвращалась на орбиту своей геополитической истории. Сегодняшнее состояние России трудно признать блестящим или даже удовлетворительным с геополитической (евразийской) точки зрения. Но главное — Heartland существует, он относительно самостоятелен, и, следовательно, мы имеем теоретическую и практическую базу для того, чтобы объединить все предпосылки для выработки ответа со стороны Суши на явление однополярной глобализации и воплотить их в жизнь.
Таким ответом Суши на вызов глобализации (как триумфа «цивилизации Моря») является многополярность как теория, философия, стратегия, политика и практика.
Многополярность как проект миропорядка
с позиции СушиМногополярность представляет собой резюме «геополитик Суши» в актуальных условиях развертывания глобальных процессов. Это чрезвычайно емкое понятие, требующее досконального рассмотрения.
Многополярность (multipolarism) — это реальная антитеза однополярности во всех ее проявлениях: жестком (империализм, неоконсы, прямая доминация США), мягком («многосторонность», multilateralism) и критическом (альтерглобализм, постмодернизм, неомарксизм).
Жесткая версия однополярности (радикальный американский империализм) основана на том, что США заявляют себя как последний оплот мирового порядка, процветания, комфорта, безопасности и развития, окруженный хаосом недоразвитых обществ. Многополярность утверждает прямо противоположное: США — это существующее среди многих других национальное государство, чьи ценности сомнительны (или, по крайней мере, относительны), претензии диспропорциональны, аппетиты чрезмерны, методы ведения внешней политики неприемлемы, а технологический мессианизм губителен для культуры и экологии всего мира. В этом смысле многополярный проект является жесткой антитезой США как инстанции, которая методично строит однополярный мир, и нацелен на то, чтобы категорически не допустить, сорвать и предотвратить это строительство.
Мягкая версия однополярности провозглашается действующей не только от имени США, но от имени «человечества», при том, что под ним понимается исключительно Запад и те общества, которые согласны с универсальностью западных ценностей. «Мягкая однополярность» призывает не навязывать силой, а убеждать, не принуждать, а объяснять выгоды, которые народы и страны получат от вступления в глобализацию. Здесь полюсом выступает не одно национальное государство (США), а западная цивилизация в целом как квинтэссенция всего человечества.
Такая, как ее иногда называют, «многосторонняя» однополярность (multilateralism, многосторонность) отвергается многополярностью, считающей, что западная культура и западные ценности представляют собой лишь один ценностный набор среди многих иных, одну культуру среди разных других культур, что культуры и ценностные системы, построенные на совершенно иных принципах, имеют полное право на существование, и поэтому у Запада в целом и у тех, кто разделяет его ценности, нет никаких оснований настаивать на универсальности демократии, прав человека, рынка, индивидуализма, личной свободы, секулярности и т. п. и строить на базе этих нормативов глобальное общество.
Против альтерглобализма и постмодернистского антиглобализма многополярность выдвигает тезис о том, что капиталистическая фаза развития и построение глобального капитализма в мировом масштабе не является необходимой фазой развития общества и само такое утверждение есть произвол и стремление навязать разным обществам один-единственный сценарий истории. В то же время смешение человечества в единый мировой пролетариат является не путем к лучшему будущему, а побочным и абсолютно отрицательным эффектом глобального капитализма, не открывающим никаких новых перспектив и ведущим лишь к деградации культур, обществ и традиций.
Если у народов и есть шансы организовать эффективное сопротивление мировому капитализму, так только там, где социалистические идеи сочетаются с элементами традиционного общества (архаическими, аграрными, этническими и т. д.), как это было в истории СССР, Китая, Северной Кореи, Вьетнама и имеет место сегодня в некоторых странах Латинской Америки (например, в Боливии, Венесуэле, на Кубе и т. д.).
Далее, многополярность — это совершенно иной взгляд на пространство земли, нежели биполярность, двухполюсный мир.
Многополярность представляет собой нормативный и императивный взгляд на нынешнюю ситуацию в мире с позиции Суши и качественно отличается от той модели, которая преобладала в Ялтинском мире в эпоху «холодной войны».
Двухполюсный мир строился по идеологическому принципу, где в качестве полюсов выступали две идеологии — социализм и капитализм. Социализм как идеология не ставил под вопрос универсализм западноевропейской культуры и представлял собой социокультурную и политическую традицию, уходящую корнями в европейское Просвещение. В определенном смысле, капитализм и социализм конкурировали между собой как две версии Просвещения, две версии прогресса, две версии универсализма, две версии западноевропейской социально-политической мысли.
Социализм и марксизм вошли в резонанс с определенными параметрами «цивилизации Суши» и поэтому победили не там, где предполагал Маркс, а там, где он эту возможность исключал — в аграрной стране с преобладающим укладом традиционного общества и имперской организацией политического пространства. Другой случай (самостоятельной) победы социализма — Китай — представлял собой также аграрное, традиционное общество.
Многополярность оппонирует однополярности не с позиции одной идеологии, которая могла бы претендовать на второй полюс, но с позиции многих идеологий, многих культур, мировоззрений и религий, которые (каждая по своим причинам) не имеют ничего общего с западным либеральным капитализмом. В ситуации, когда Море имеет единое идеологическое выражение (правда, все более уходящее в сферу подразумеваний, а не открытых деклараций), а сама Суша не имеет такового, представляя собой несколько различных мировоззренческих и цивилизационных ансамблей, многополярность предлагает создание единого фронта Суши против Моря.
Многополярность отличается и от консервативного проекта сохранения и укрепления национальных государств. С одной стороны, национальные государства в колониальную и в постколониальную эпохи отражают в своих структурах западноевропейское понимание нормативного политического устройства (игнорирующего религиозные, социальные, этнические, культурные особенности конкретных обществ), то есть сами нации частично являются продуктами глобализации. А с другой стороны, из двухсот пятидесяти шести стран, официально числящихся сегодня в списке ООН, только незначительная часть способна при необходимости отстоять свой суверенитет самостоятельно, не входя в блок или альянс с другими странами. Это значит, что не каждое номинально суверенное государство можно считать полюсом, так как степень стратегической свободы у подавляющего большинства из признанных стран ничтожна. Поэтому укрепление Вестфальской системы, которая по инерции существует и сегодня, не является задачей многополярности.
Многополярность, будучи противоположностью однополярности, не призывает ни к возврату к двухполюсному миру на идеологической основе, ни к закреплению порядка национальных государств, ни к простому сохранению статус-кво. Все эти стратегии будут играть только на руку центрам глобализации и однополярности, так как у них есть проект, план, цель и рациональный маршрут движения в будущее, а все перечисленные сценарии в лучшем случае являются призывом к замедлению процесса глобализации, а в худшем (например, проект восстановления двухполярности на идеологической основе) выглядят как ностальгия или безответственные фантазии.
Многополярность — это вектор геополитики Суши, обращенный в будущее. Он основывается на социологической парадигме, чья состоятельность исторически доказана в прошлом, реалистично учитывает сложившееся в современном мире положение дел и основные тенденции и силовые линии его вероятных трансформаций. Но многополярность выстраивается как проект, как план того миропорядка, который только еще предстоит создать.
Многополярность
и ее теоретическое осмыслениеНесмотря на то, что термин «многополярность» в последнее время довольно часто употребляется в политических и международных дискуссиях, его значение довольно размыто и неконкретно. Различные политические круги и отдельные аналитики вкладывают в него разный смысл. Основательные исследования и солидные научные монографии, посвященные многополярности, можно пересчитать по пальцам279. Даже серьезные статьи на эту тему довольно редки280. Причина этого вполне понятна: параметры нормативного политического и идеологического дискурса в глобальном масштабе сегодня задают США и страны Запада и по этим правилам можно обсуждать все, что угодно, но только не наиболее острые и болезненные вопросы. Даже те, кто считает, что однополярность была лишь «моментом281» в 1990-е годы и сейчас происходит переход к новой неопределенной модели, готовы обсуждать любые версии, но только не «многополярную». Так, например, современный глава CFR Ричард Хаасс говорит о Non-Polarity, имея в виду такую стадию глобализации, где потребность в наличии жесткого центра отпадет сама собой282. Подобные ухищрения объясняются тем, что одной из задач глобализации является, как мы видели, маргинализация «цивилизации Суши». А поскольку многополярность может быть только формой активной стратегии «цивилизации Суши» в новых условиях, то обращение к ней в общем глобальном контексте Западом, задающим тон в структуре политического анализа, не приветствуется.Тем более не следует ожидать, что конвенциональные идеологи Запада возьмутся за разработку теории многополярности.
Логично было бы предположить, что теория многополярности будет выстраиваться в тех странах, которые открыто провозглашают ориентацию на многополярный мир как основной вектор своей внешней политики. К числу таких стран относятся Россия, Китай, Индия и некоторые другие. Кроме того, обращение к многополярности можно встретить в текстах и документах некоторых европейских политических деятелей (например, бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Видрина283). Но в данный момент и в этой области мы едва ли можем найти нечто большее, чем материалы нескольких симпозиумов и конференций с довольно смутными формулировками. Приходится констатировать, что тема многополярности должным образом не осмысляется и в тех странах, которые ее провозглашают в качестве своей стратегической цели, не говоря уже об отсутствии внятной и цельной «теории многополярности».
Тем не менее, на основании геополитического метода с позиции «цивилизации Суши» и с учетом анализа явления глобализма вполне можно сформулировать некоторые безусловные принципы, которые должны лечь в основание теории многополярности, когда дело дойдет до ее более систематизированной и развернутой разработки.
Многополярность: геополитика и метаидеология
Наметим теоретические источники, на основании которых должна строиться полноценная теория многополярности.
Основой этой теории в актуальных условиях может быть только геополитика. Никакая религиозная, экономическая, политическая, социальная, культурная или экономическая идеология не способна в данный момент сплотить критическую массу стран и обществ, относящихся к «цивилизации Суши» в единый планетарный фронт, необходимый для того, чтобы составить серьезную и эффективную антитезу глобализму и однополярному миру. В этом и состоит специфика исторического момента («момента однополярности»284): у доминирующей идеологии (глобального либерализма/постлиберализма) нет симметричной оппозиции на ее собственном уровне. Поэтому надо обратиться к геополитике напрямую, взяв принцип Суши, Land Power вместо оппонирующей идеологии. Это возможно лишь в том случае, если в полной мере будут осознаны социологическое, философское и цивилизационное измерения геополитики.
Для доказательства этого утверждения нам послужит «цивилизация Моря». Мы видели, что матрица этой цивилизации встречается не только в Новое время, но и в талассократических империях древности, например в Карфагене, античных Афинах или Венецианской республике. В рамках самого современного мира атлантизм и либерализм обретают полное превосходство над другими тенденциями далеко не сразу. Мы можем проследить определенную концептуальную последовательность: как «цивилизация Моря» (как геополитическая категория) движется сквозь историю, через серию социальных формаций, принимая разные формы, пока не находит своего наиболее законченного и совершенного выражения в идее глобального мира, где ее внутренние установки становятся доминирующими в планетарном масштабе. Идеология современного мондиализма есть только историческая форма более общей геополитической парадигмы. И между этой (возможно, наиболее совершенной) формой и геополитической матрицей существует прямая связь.
В случае «цивилизации Суши» аналогичной симметрии не существует. Идеология коммунизма лишь частично (за счет героизма, коллективизма и антилиберализма) резонировала с геополитическими установками «сухопутного» общества, да и то только в случае евразийского СССР и в меньшей степени Китая, так как другие аспекты этой идеологии (прогрессизм, техника, материализм) плохо вписывались в структуру ценностей «цивилизации Суши». И сегодня даже в теории коммунизм не может выполнять той мобилизующей идеологической функции, которую он выполнял в ХХ веке в планетарном масштабе. С идеологической точки зрения Суша действительно расколота на фрагменты, и в ближайшее время едва ли мы можем ожидать появления какой-то новой идеологии, способной симметрично противостоять либеральному глобализму.
Но сам геополитический принцип Суши ничего не утрачивает в своей парадигмальной структуре. Именно он и должен быть взят в качестве фундамента для построения теории многополярности. Эта теория должна обращаться напрямую к геополитике, черпать из нее принципы, идеи, методы и термины. Это позволит иначе отнестись и к широкому спектру существующих неглобалистских и контрглобалистских идеологий, религий, культур и социальных течений. Им совершенно не обязательно трансформироваться в нечто единое и систематизированное. Они вполне могут оставаться локальными или региональными, но быть интегрированными в общий фронт противостояния глобализации и доминации «цивилизации Запада» на метаидеологическом уровне, на уровне парадигмы «геополитики Суши». И этот момент множественности идеологий заложен уже в самом термине «многополярность» — и не только в рамках стратегического пространства, но и в области пространства идеологического, культурного, религиозного, социального, экономического).
Многополярность есть не что иное, как продление «геополитики Суши» в новую среду, характеризуемую наступлением глобализма (как атлантизма) на качественно новом уровне и в качественно новых пропорциях. Никакого другого смысла у многополярности просто не может быть.
Геополитика Суши и ее основные векторы, спроецированные на современные условия, являются осью многополярной теории, на которую нанизываются все остальные аспекты этой теории. Эти аспекты составляют философскую, социологическую, ценностную, экономическую, этическую стороны этой теории. Но все они, так или иначе, сопряжены с осознанной в углубленно социологическом ключе структурой «цивилизации Суши» и с прямым смыслом самого понятия «многополярности», которое отсылает нас к принципам плюральности, множественности, неуниверсальности, дифференцированности.
Многополярность и неоевразийство
Ближе всего к теории многополярности располагается неоевразийство. Это направление уходит корнями в геополитику и оперирует преимущественно с формулой «Россия-Евразия» (как Heartland), но вместе с тем разрабатывает широкий спектр мировоззренческих, философских, социологических и политологических направлений, а не ограничивается только геостратегией и прикладным анализом.
Содержание термина «неоевразийство» можно проиллюстрировать фрагментами Манифеста Международного «Евразийского Движения» «Евразийская миссия»285. Его авторы выделяют в неоевразийстве пять уровней, которые позволяют по-разному трактовать его в зависимости от конкретного контекста.
Первый уровень: евразийство есть мировоззрение.
Согласно авторам Манифеста, термин «евразийство» «применяется к определенному мировоззрению, определенной политической философии, в оригинальной манере, сочетающей в себе традицию, современность и даже элементы Постмодерна. Философия евразийства исходит из приоритета ценности традиционного общества, признает императив технической и социальной модернизации (но без отрыва от культурных корней) и стремится адаптировать свою идейную программу к ситуации постиндустриального информационного общества, называемого «Постмодерном».
В Постмодерне снимается формальное противопоставление между традицией и современностью. Однако постмодернизм атлантистского типа уравнивает их с позиции безразличия и исчерпанности содержания. Евразийский Постмодерн, напротив, видит возможность альянса традиции с современностью как созидательный оптимистический энергичный импульс, побуждающий к творчеству и развитию.
В евразийской философии легитимное место получают реальности, вытесненные эпохой Просвещения, — религия, этнос, империя, культ, предание и т. д. В то же время из Модерна берется технологический рывок, экономическое развитие, социальная справедливость, освобождение труда и т. д. Противоположности преодолеваются, сливаясь в единую гармоничную и оригинальную теорию, пробуждающую свежие мысли и новые решения для вечных проблем человечества. (…)
Философия евразийства — открытая философия, любые формы догматизма ей чужды. Она может пополняться многообразными течениями — историей религий, социологическими и этнологическими открытиями, геополитикой, экономикой, страноведением, культурологией, разнообразными видами стратегических и политологических исследований и т. д. Более того, евразийство как философия предполагает оригинальное развитие в каждом конкретном культурном и языковом контексте: евразийство русских будет с неизбежностью отличаться от евразийства французов или немцев, евразийство турок от евразийства иранцев; евразийство арабов от евразийства китайцев и т. д. При этом основные силовые линии этой философии в целом будут сохраняться неизменными. (…)
Основными реперными точками евразийской философии можно назвать следующие пункты:
• дифференциализм, плюрализм ценностных систем против общеобязательной доминации какой-то одной идеологии (в нашем случае и в первую очередь американской либерал-демократии);
• традиционализм против уничижения культур, догматов и обрядов традиционных обществ;
• «государство-мир», «государство-континент» против как буржуазных национальных государств, так и «мирового правительства»;
• «права народов» против всемогущества «золотого миллиарда» и неоколониальной гегемонии «богатого Севера»;
• этнос как ценность и субъект истории против обезличивания народов и отчуждения их в искусственных социально-политических конструкциях;
• социальная справедливость и солидарность людей труда против эксплуатации, логики грубой наживы и унижения человека человеком»286.
Неоевразийство как планетарный тренд
На втором уровне: неоевразийство есть планетарный тренд. Авторы Манифеста поясняют:
«Евразийство на уровне планетарного тренда — это глобальный, революционный, цивилизационный концепт, который, постепенно уточняясь, призван стать новой мировоззренческой платформой взаимопонимания и сотрудничества для широкого конгломерата различных сил, государств, народов, культур и конфессий, отказывающихся от атлантической глобализации.
Стоит внимательно прочесть заявления самых разнообразных сил во всем мире: политиков, философов, интеллектуалов, и мы удостоверимся, что евразийцы составляют подавляющее большинство. Менталитет многих народов, обществ, конфессий и государств, хотя они сами об этом могут не подозревать, евразийский.
Если подумать об этом множестве различных культур, религий, конфессий и стран, не согласных с «концом истории», навязываемым нам атлантизмом, бодрость нашего духа возрастет, а серьезность рисков реализации американской концепции стратегической безопасности ХХI века, связанной с установлением однополярного мира, резко увеличится.
Евразийство есть совокупность всех естественных и искусственных, объективных и субъективных препятствий на пути однополярной глобализации, причем возведенных от простого отрицания к позитивному проекту, к созидательной альтернативе. Пока эти препятствия существуют разрозненно и хаотически, глобалисты справляются с ними по отдельности. Но стоит их интегрировать, сплотить в некое единое, последовательное мировоззрение планетарного характера, шансы на победу евразийства во всем мире будут весьма серьезными»287.
Неоевразийство как интеграционный проект
На следующем уровне неоевразийство трактуется как проект стратегической интеграции евразийского материка:
«Понятие «Старый Свет», которым обычно обозначается Европа, можно рассмотреть гораздо шире. Это гигантское мультицивилизационное пространство, населенное народами, государствами, культурами, этносами и конфессиями, связанными между собой исторически и пространственно общностью диалектической судьбы. Старый Свет — это продукт органического развития человеческой истории.
Старый Свет обычно противопоставляется Новому Свету, т. е. американскому материку, открытому европейцами и ставшему платформой построения искусственной цивилизации, в которой воплотились европейские проекты Модерна, эпохи Просвещения. (…)
В ХХ веке Европа осознала свою самобытную сущность и постепенно двигалась к интеграции всех европейских государств в единый Союз, способный обеспечить всему этому пространству суверенность, независимость, безопасность и свободу.
Создание Евросоюза было величайшей вехой в деле возвращения Европы в историю. Это было ответом «Старого Света» на непомерные претензии «Нового». Если рассматривать альянс США и Западной Европы — с доминацией США — как атлантистский вектор европейского развития, то интеграцию самих европейских держав с преобладанием континентальных стран (Франция–Германия) можно считать евразийством применительно к Европе.
Особенно это становится наглядным, если учесть теории о том, что Европа геополитически простирается от Атлантики до Урала (Ш. де Голль) или до Владивостока. Иными словами, бескрайние пространства России также полноценно включаются в поле Старого Света, подлежащего интеграции.
(…) Евразийство в этом контексте может быть определено как проект стратегической, геополитической, экономической интеграции севера евразийского материка, осознанного как колыбель европейской истории, матрица народов и культур, тесно переплетенных между собой.
А поскольку сама Россия (как, впрочем, и предки многих европейцев) в значительной степени связана с тюркским, монгольским миром, с кавказскими народами, то через Россию и параллельно через Турцию интегрирующаяся Европа как Старый Свет в полной мере приобретает евразийское измерение — и в данном случае не только в символическом, но и в географическом смысле. Здесь можно синонимически отождествить евразийство с континентализмом»288.
Эти три наиболее общие определения неоевразийства показывают, что здесь мы имеем дело с предварительным основанием для построения теории многополярности. Это сухопутный взгляд на самые острые вызовы современности и попытка дать на них выверенный, учитывающий геополитические, цивилизационные, социологические, исторические и философские закономерности ответ.
К теории многополярности. Мировоззренческие основы
Теоретические основы многополярности. Философия множественности. Плюриверсум вместо универсума
Теория многополярности основывается на философии множественности. Эту идею емко выразил французский философ и геополитик Ален де Бенуа в манифесте «2000» возглавляемого им движения GRECE. Ален де Бенуа призывает рассматривать мир как «плюриверсум», в отличие от «универсума». По латыни «universum» означает «сведение к единому». Неологизм «pluriversum» подчеркивает, что целью является не сведение к единому, не упрощение системы, но сохранение множественности и разнообразия. Авторы Манифеста пишут:
«Различие заложено в самом движении жизни, которая бурно развертывается через все большее и большее усложнение. Множественность и различие народов, этносов, языков, нравов, религий характеризуют развитие человечества, начиная с его истоков. Есть два отношения к этому факту. Для одних это жизненно-культурное различие и разнообразие представляет собой бремя, откуда рождается стремление всегда и повсюду сводить людей к тому, что есть между ними общего, что подчас приводит к самым извращенным последствиям. А для других, и это наш случай, различие — это богатство, которое необходимо сохранять и культивировать. (…) Мы считаем, что хороша та система, которая способна передавать через себя как минимум столь же сложные ансамбли, как те, что она вбирает в себя. Подлинное богатство мира заключается в различии культур и народов»289.
Этот принцип полностью созвучен неоевразийской философии.
Идейные истоки философии множественности
Истоки философии множественности следует искать одновременно в нескольких философских традициях.
Это:
• немецкий романтизм (братья Фридрих Шлегель (1772–1829) и Август Шлегель (1767–1845), Фридрих Шеллинг (1775–1854), Фридрих Гельдерлин (1770–1843), Людвиг Тик (1773–1853), Адам Мюллер (1779–1 829), Генрих фон Кляйст (1771–1811), Новалис (1772–1801) и др.);
• органицизм (Альфред Эспина (1844–1922), Рене Вормс (1869–1926), Павел Лилиенфельд-Тоаль (1829–1 903), Альберт Шэффле (1831–1903) и др.);
• философия жизни (Фридрих Ницше (1844–1900), Вильгельм Дильтей (1833–1911), Анри Бергсон (1859–1941) и др.);
• холистская традиция в социологии (Ф. Теннис (1855–1936), Г. Зиммель (1858–1918), В. Зомбарт (1863–1941), М. Мосс (1872–1950), Ж. Дюран и др.);
• культурная антропология/этносоциология (Франц Боас (1858–1942) и его ученики, Альфред Кребер (1876–1960), Эдвард Сэйпир (1884–1939), Роберт Лови (1883–1957), а также Бронислав Малиновский (1884–1942), Альфред Рэдклиф-Браун (1881–1955), Клод Леви-Стросс (1908–2009), Рихард Турнвальд (1869–1954), Вильгельм Мюльман (1904–1988) и др.);
• русское славянофильство и религиозная философия (А. С. Хомяков (1804–1860), И. В. Киреевский (1806–1856), К. Н. Леонтьев (1831–1891), Н. Я. Данилевский (1822–1885), В. С. Соловьев (1853–1900) и др.);
• евразийство (Н. С. Трубецкой (1890–1938), П. Н. Савицкий (1895–1965), Г. В. Вернадский (1877–1973), Н. Н. Алексеев (1879–1964) и др.);
• фундаментальная онтология (М. Хайдеггер (1889–1976));
• «Консервативная Революция» (О. Шпенглер (1880–1936), К. Шмитт (1888–1985), Э. Никиш (1889–1967), Э. Юнгер (1895–1998) и др.);
• традиционализм (Р. Генон (1886–1951), Ю. Эвола (1989–1974), М. Элиаде (1907–1986) и др.).
К европейским и русским источником следует добавить целый спектр современной восточной философии:
• японской (Китаро Нишида (1870–1945), Тейтаро Дайсетцу Судзуки (1870–1966) и др.);
• индийской (Бал Ганадхар Тилак (1856–1920), Шри Рамана Махариши (1879–1950), Ананда Кумарасвами (1877–1947) и др.);
• китайской (Кан Ювэй (1858–1927), Лян Цичао (1873–1923), Шен Юдинг (1908–1989), Лян Шумин (1893–1988) и др.);
• иранской (Мухаммад Икбаль (1877–1938), Али Шариати (1933–1977), Мухаммад Хусейн Табатабаи (1892–1981), Муртаза Маттахери (1920–1979), Сейид Хоссейн Наср и др.);
• арабской (Абд-эль Рахман Бадави (1917–2002), Хасан Ханафи, Надир ибн-Бизри, Хишем Джайят и др.).
Это гигантское поле теорий, школ, идей и авторов, которое можно расширять до бесконечности во всех направлениях (географическом и историческом, в глубь времен), имеет следующее общее качество. Все они, независимо от того, созданы ли они на Западе или на Востоке:
• критически оценивают философскую структуру ценностей западной цивилизации;
• отвергают ее претензии на универсальность;
• считают тупиковым магистральный путь западноевропейского развития в последние века и квалифицируют нынешнее состояние западной цивилизации как кризис и преддверие катастрофы;
• не признают мифа о прогрессе и эволюции;
• критически оценивают техническое развитие и видят в «раскрепощенной технике» величайшую угрозу;
• отказываются воспринимать европейскую рациональность как единственно возможную форму рациональности;
• утверждают право разных культур двигаться по своим траекториям в любом избранном ими направлении.
Одним словом, все эти интеллектуальные направления являются многополярными по своей сути, обосновывая в самых разных контекстах, аспектах и ракурсах право на различие и подрывая претензии западного либерального дискурса на доминацию, единственность, нормативность и глобализм. Лишь редкие авторы и школы, из перечисленных выше, напрямую апеллировали к геополитике, «цивилизации Суши», но все они, и множество иных течений в современной философии, по своим структурам могут быть отнесены именно к «сухопутным», если учесть то, что мы говорили о социологическом измерении геополитики. Все эти школы и авторы предлагают строить общество на основах традиций, которые, у каждого этноса и каждой культуры, у каждого места земли самобытны и различны. Таким образом, все они обосновывают «плюриверсум» как антитезу «единому миру», oneworld. Различие берется в этих философиях как синоним жизни, богатства (К. Леонтьев называл этот принцип «цветущей сложностью»290), свободы и жизненной силы. А не как угроза и «бремя», каким оно представляется «универсалистам». Поэтому эти направления призывают к обоснованию различий между народами и культурами, их углублению, сохранению и новому утверждению. Разница между одной культурой и другой совершенно необязательно должна автоматически вести к конфликту между ними. Конфликты периодически случаются, но точно так же случаются они и в универсальном мире. Надо стремиться к миру и гармонии, к диалогу и взаимопониманию. Но ни в коем случае нельзя приносить в жертву динамические структуры идентичности, какие бы они ни были.
Ф. Боас: равноправие культур
В этом отношении показательна огромная работа культурных антропологов (американской школы Франца Боаса, английской школы Малиновского и французской школы Клода Леви-Стросса) и этносоциологов (Р. Турнвальд), которые, исследуя архаические народы, пришли к выводу, что их жизненный мир, структура мифологического мышления, социальный уклад и воззрения на природу, общество, человека, историю, жизнь, смерть, тайну, обряд и т. д. несут в себе колоссальное культурное богатство, абсолютно сопоставимое, а то и многократно превосходящее культуру современного западного человека.
Ф. Боас писал об этом в одном из своих писем из ранней экспедиции к арктическим островам Баффина:
«Я часто спрашиваю себя, в чем же состоит то преимущество, которым обладает «развитое» общество над обществом «дикарей», и я нахожу, что, чем больше я изучаю их привычки, тем больше понимаю, что мы просто не имеем никакого права смотреть на них сверху вниз. Мы не имеем права осуждать их за их формы и предрассудки, какими бы нелепыми они нам ни казались. Мы, «высокообразованные люди», намного хуже них…»291.
Если внимательные и серьезные антропологи и этнологи, познакомившись с примитивными обществами, приходят к таким выводам, то что говорить о многотысячелетних культурах Азии, Ближнего Востока, Северной Африки или Латинской Америки?! Что говорить о тысячелетней русской культуре? Все эти культурные, социальные и религиозные явления — от гигантских до микроскопических — обладают уникальной ценностью и развиваются естественным путем. И всем им угрожает дорожный каток современной западной цивилизации, навязывающий примитивные коды своей декадентской культуры в глобальном масштабе, апеллируя к самым простейшим, материальным и примитивным реакциям, действительно универсальным и всеобщим, тогда как сложные здания культуры и духовная жизнь, напротив, различают все общества и делают их неповторимыми, оригинальными и самобытными.
Н. Трубецкой: альянс народов
против навязываемого универсализмаС аналогичного тезиса начиналась и евразийская философия. Князь Николай Трубецкой написал книгу «Европа и человечество»292, в которой задолго до глобализации (в ее современной форме) предупреждал, что европейский универсализм несет в себе смертельную угрозу всему человечеству, поскольку отрицает множественность культур. Н. Трубецкой в начале XX столетия призвал народы Земли сплотиться для того, чтобы дать решительный бой романо-германскому миру и его необоснованным колониальным и империалистическим претензиям. Другой евразиец, Петр Савицкий, подхватив идеи Трубецкого, уточнил в статье «Европа и Евразия»293, что только Россия-Евразия может быть главной опорой для создания такого общечеловеческого фронта, направленного против европейской стратегии отношения к миру.
Актуальность
философии множественностиВ условиях глобализации эти евразийские инициативы 1920-х годов прошлого века выглядят удивительно актуально. Тезис Трубецкого об «угрозе Европы для человечества» может быть переформулирован как тезис об «угрозе глобализации», а мысль П. Савицкого о роли России-Евразии в построении глобального антиевропейского альянса народов может быть положена в основу стратегии многополярного мира.
Но отрицание глобализации и борьба с однополярностью не самоцель. Они проистекают из особенного, уникального видения мира (совершенно иного, нежели современное европейское и особенно англосаксонское либеральное мировоззрение), которое отнюдь не реактивно и не живет «ненавистью» и «отторжением», но самодостаточно и имеет ценность в самом себе — в гармоничном и естественном раскрытии потенциала каждого из обществ (малого или большого) на своем собственном всегда оригинальном и самобытном пути.
Таким образом, в основе теории многополярности должна лежать философия плюриверсума, философия различия, взятого как самоценное и позитивное фундаментальное явление жизни. Вопреки универсалистской философии глобализма многополярная философия различия утверждает, что подлинные ценности могут существовать только в рамках породивших их культуры, что множество культур — это богатство человечества, а не его беда, и что универсальным в человечестве являются только самые низменные, бескультурные и порочные проявления. Иными словами, философия многополярности отрицает не следствия или побочные эффекты глобализации, но ее корни, основания, глубинные мировоззренческие предпосылки.
Множественность бытия. Разное единство
Итак, идея глобализации в своих философских истоках апеллирует к единству бытия (по меньшей мере, так у К. Акселоса, О. Финка, В. Десана и т. д.). Но каждая культура понимает и трактует это единство совершенно по-разному.
Мы уже упоминали об «этноцентруме» и видели, что даже самое крохотное племя способно вместить мир в зону, расположенную неподалеку от границ его селения. И солнце, и луна, и звезды, и небо, и живые, и мертвые, и стихии, и боги, и духи — все вмещается в этноцентрум, как в первичную матрицу универсального. Только при переходе к состоянию «народа» этнос утрачивает единство бытия, но тут же пускается в погоню за ним, вступает в историю, чтобы его восстановить. В теологически и философски развитых культурах единство бытия приобретает еще более утонченный характер. В исламе это связано с тематикой «таухида», единения верующего с Аллахом через исполнение религиозных предписаний. Арабский термин «таухид» означает «приведение к единству», «активное единение». Вообще идея единого бытия составляет центральную тему в теологиях монотеизма. В христианской традиции эта тема особенно широко представлена в Православии, а в ряде монашеских практик, таких как исихазм, идея единения человека и Бога как восстановление единства бытия стоит в центре внимания. Этимологически термин «иудей» трактуется еврейской традицией как производное от ивритского слова «ахад», «один», и, следовательно, «иудей» есть носитель знания о едином Боге, единобожия, то есть единства бытия.
Совершенно иначе понимают единство бытия индусы (в рамках адвайта-Веданты и ее философии), буддисты (ставящие превыше всего не единство бытия, а нирвану, «погашение бытия»), китайцы (в двух версиях своей духовной традиции — конфуцианской и даосской) и другие развитые философские культуры.
В русской религиозной философии (В. Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков) единство бытия интерпретируется через сложную и парадоксальную теорию «всеединства»294.
Поэтому форма постижения единства бытия широко варьируется от этноцентрумов до гигантских по философскому и теологическому объему религиозных культур. Единство бытия постигается различно, и никакая инстанция не может претендовать на то, что она одна выносит нормативный приговор относительно того, какое понимание единства надо считать правильным. Мы подходим к этой теме по запутанным лабиринтам разнообразных духовных культур, и само путешествие, само освоение данной культуры (которая либо дана нам изначально обществом, либо выбрана нами сознательно и добровольно) составляет не простой путь становления человеком.
В отношении «единого бытия» мы стартуем с разных позиций, и пути тоже фундаментально различны. Если на определенном уровне продвижения нам становятся понятны духовные структуры других культур и религий, это вполне объяснимо, так как люди, взыскующие единства, чем-то похожи. Но это касается только тех, кто кладет жизнь на алтарь духа, философии, религии, искусства, науки. Большинство людей живут в своем «жизненном мире», единство которого обеспечивается не ими индивидуально, а обществом и его традициями. Попытка соединить все человечество в столкновении с единым бытием, причем только в его западном рационально-логическом, либерально-индивидуалистическом понимании, составляющим сущность глобализма и мондиализма, окончательно оторвет массы от единства, от мира в его целостности, погрузит его в водоворот бесконечных фрагментов, осколков, частей, не складывающихся ни в какое общее целое. Так, современный французский философ Марсель Конш говорит, что современность не может более оперировать со словом «мир» (lemonde) как с чем-то целым. Отныне вместо мира мы погружены в «экстравагантный ансамбль»295. Впрочем, это замечал в последние годы даже Костас Акселос, апологет мондиализма, утверждавший, что «при современной глобализации утрачивается мир как таковой»296.
М. Хайдеггер:
поиск целого в «аутентичном Dasein’е»Философия многополярности строится таким образом, чтобы предоставить путь к единству бытия, к опыту целого, опыту мира многообразным культурам и традициям различных обществ и не выносить на этот счет никаких окончательных решений. Феноменологически, на уровне «жизненного мира», мир состоит из различий: разных этносов, разных языков, разных обществ. Все, что сегодня повсюду оказывается одинаковым — Макдоналдс, молодежные моды, брэнды, рыночные операции, формально демократические процедуры, технические приборы, сетевые протоколы, интернациональный сленг на изломанном английском, автомобили и другие серийные товары, — никак не приближает нас к единству бытия и является искусственной нивелирующей паутиной, наброшенной на общества, с совершенно различной структурой и различным пониманием бытия. Бытие не может открыться через технику, комфорт, унифицированные товары или модные брэнды. Поэтому единства бытия следует искать где угодно, только не в глобальном мире. Странствие по нему не откроет нам планетарного горизонта, но зато закроет глубинное измерение нашей собственной культуры и идентичности, в глубине структуры которой, согласно многополярной философии, и лежит путь к бытию и открытости.
Философ Мартин Хайдеггер вводит понятие «Dasein», «вот-бытие», которое описывает структуру отношения человека с бытием. «Dasein», по Хайдеггеру, первичная реальность, над которой впоследствии надстраивается мышление, рациональность, философия, культура. В теории многополярности стартовым моментом является утверждение множественности Dasein’ов, то есть убежденность в том, что каждое общество, культура, этническая или народная группа имеет свой особый Dasein297, отталкиваясь от которого и создаются впоследствии разветвленные культурные, социальные, политические, религиозные и философские системы. Множественность Dasein’ов и основанное на этом принципе исследование различных «жизненных миров» народов земли составляет сущность многополярной философии.
Плюральная антропология.
Отказ от горизонта человечестваКонцепт «человечества», как его понимают глобалисты, в многополярной философии перечеркивается. Это понятие искусственное, чисто техническое и не имеет феноменологического или эмпирического подтверждения. Оно родилось в Новое время на основании секулярных гуманистических абстракций и имело чисто идеологическое значение для борьбы с христианской религией и ее представлением о центральности фигуры Бога — в мире и истории. Вопреки теологическому утверждению гуманисты выдвинули тезис о том, что не Бог творит историю, но человек, человечество. В основу концепции «человечества» была положена секуляризация христианской идеи сотворения всех людей от первочеловека Адама. Отбросив идею «творения» как «предрассудок», деятели Просвещения сохранили представление о человечестве как едином явлении, но уже на основании социально-психологических, а позже (после Дарвина) видовых биологических и зоологических свойств (Homo Sapiens).
Э. Гуссерль, А. Мальро: «европейское человечество»
Показательно, что в европейской культуре XIX–XX веков сплошь и рядом использовался термин «европейское человечество» (в частности, его употребляли Эдмунд Гуссерль (1859–1938)298 и Анри Мальро (1901–1976)299). Это не оговорка и не случайное выражение. Европейская культура основана на презумпции того, что она является прогрессивной, идущей впереди всех голограммой мировой культуры. Европейское общество рассматривается как алгоритм общества как такового, и тогда все человечество есть лишь расширение понятия (причем, как правило, с точки зрения незавершенности, незаконченности, отсталости) «европейского человечества».
На самом же деле горизонт «человечества», который якобы обнаруживает глобализм и его философия, есть все то же «европейское человечество», лишь раздутое до планетарных размеров, спроецированное на все остальные культуры и народы. Поэтому глобалисты открывают не «мир как целое», а остаются в рамках Запада, который превращается в «планетарный Запад». Никакого столкновения с общим, никакого обнаружения целого не происходит. То, что не похоже на Запад, превращается в то, что похоже на Запад (с его демократией, рынком, техникой, либерализмом, индивидуализмом, правами человека, сетями и т. д.), и только после этого принимается в расчет. Глобализм есть абсолютизация частного, а не открытие общего и целого. А «человечество» есть не что иное, как инструментальный идеологический концепт, служащий для того, чтобы во всех направлениях работать с формулой «человечество» = «европейское человечество». Конечно, на практике эта формула не работает, так как большинство мировых культур и подавляющее большинство населения земли относятся к неевропейскому типу. Но для Запада и мондиализма это означает только одно: сегодня не относятся, а завтра будут относиться — кто добровольно, а кто принудительно.
Разные «человечества»
С точки зрения теории многополярности, конечно, существует «европейское человечество» как общество, построенное на основаниях ценностных систем западноевропейской цивилизации. Но наряду с ним существуют и многие другие «человечества» — индийское, китайское, русско-евразийское, арабское, исламское, африканское, тихоокеанское, буддистское, латиноамериканское человечества и так далее. Их границы подчас накладываются друг на друга, а внутри них существуют «микрочеловечества» вплоть до этносов и племен. Крохотные племена нивхов, кетов, юкагиров, шорцев или сету в Евразии, ведда на Цейлоне или пирахан в бассейне Амазонки — те же «человечества» с уникальным языком, культурой, обрядами, традициями, со своими собственными рациональностью, жизненным миром, Dasein’ом. И чтобы сложить всех их в общий планетарный ансамбль, надо предварительно досконально изучить их культуры, проникнуть в их суть, понять и полюбить их, постичь их логику — причем такой, какая она есть, а не такой, какой она видится извне. На практике это почти невозможно, но вполне может быть высокой и благородной целью. Эту цель и ставит перед собой философия многополярности. Причем не для того, чтобы выяснить, что между всеми этими «человечествами» есть общего, но чтобы насладиться величественным богатством их различий.
Теория многополярности отрицает горизонт человечества, считая его «империалистической» евроцентричной абстракцией. Она готова иметь с ним дело только в форме его отрицания, отвержения, разоблачения его несостоятельности и его колониальной, и даже «расистской» сущности: ведь в своем основании этот концепт предполагает, по умолчанию, превосходство западных обществ над всеми остальными и является выражением если не биологического, то, во всяком случае, культурного, социального и технологического расизма.
Запад и «все остальные» (The West and the Rest)
Остается лишь разрешить вопрос о том, в каком смысле евразиец Н. Трубецкой использовал термин «человечество» в своей программной работе «Европа и человечество»300? В данном случае Трубецкой понимает «человечество» как антитезу «европейскому человечеству», как многообразие существующих культур и традиций. Европа для него воплощает в себе навязчивый империалистический универсализм, а все остальное «человечество» превращается в жертву европейской глобальной политики (в том числе экономической, культурной, образовательной и т. д.), представляя собой вовсе не «единый горизонт», а типично сухопутное «многообразие» культур, находящееся под угрозой стирания, уничтожения, разложения и переформатирования под напором становящегося глобальным Запада.
В своей книге «Столкновение цивилизаций»301 американский политолог Самуил Хантингтон, опираясь на работы английского историка Арнольда Тойнби302 (1889–1975), использует формулу «The West and the Rest» — «Запад и остальные». То, что имеет в виду под «человечеством» Н. Трубецкой, это как раз «остальные» (the Rest) — все, кроме Запада, тогда как глобалисты и мондиалисты, напротив, под «человечеством» имеют в виду прежде всего именно Запад, а под «остальными» (the Rest) — тех, кому еще только предстоит этим «Западом» стать (своего рода «недочеловечеством», «недоразвитыми обществами»).
Философия многополярности — это философия «остальных» (the Rest), которым угрожает опасность со стороны «Запада» (the West) и которым необходимо консолидировать усилия, чтобы эту опасность отразить. Лишь после этого можно говорить о пути к единству через сложнейший процесс диалога культур и цивилизаций или о сохранении и возрождении различий. Это вопрос открытый, и теория многополярности не может так далеко прогнозировать будущее. Если проект глобализации рухнет, перед разными народами и обществами земли встанут совершенно иные проблемы и вызовы. Будут ли они глобальными или нет, заранее предсказать невозможно. Но сегодня вся глобальная проблематика носит пристрастный, инструментальный и жестко идеологизированный характер, исходит из западного «ядра» и является формой информационной войны и манипуляции общественным мнением.
Признание человеческих различий
Различие человеческих обществ является эмпирически подтверждаемым историческим законом. Мы знаем только разные общества, и каждое из них основано на особой антропологии, имеет особое представление о том, что такое человек. Никакой общей антропологии не существует. Каждая культура решает антропологическую проблему по-своему. Многополярная философия признает это как факт и не стремится его изменить. Поэтому она постулирует множественную антропологию как аксиому, как нечто, что нужно признать и осмыслить, но отнюдь не преодолеть. Любая попытка иерархизировать человеческие общества, так или иначе, ведет к «расизму»; и даже если биологический расизм сегодня вышел из моды, культурный, экономический, социальный, технологический расизм остается осью западного взгляда на мир. Сегодня он просто поменял свои формы: теперь «низшими» считаются культуры и общества, которые не признают императива индивидуализма, свободы, толерантности, секуляризма, прав человека, политической демократии и либеральной рыночной экономики: они объявляются «отсталыми», «недоразвитыми», «архаичными» и «тоталитарными» и подлежат, как в предельном случае Югославии, Ирака и Афганистана, насильственному «исправлению» и «аккультурации».
Многополярная философия исходит из совершенно иного подхода: каждое общество вправе выстраивать свои структуры и свои представления о человеке на основании собственных исторических традиций. Это может нравиться или не нравиться соседним обществам. В пограничных случаях это может провоцировать конфликты, а в других, напротив, гармоничное сочетание и творческий диалог культур. По крайней мере, никогда нельзя судить одно общество, исходя из критериев другого общества, а тем более возводить результаты этого сравнения в идеологический принцип — в этом состоит суть философии многополярности.
От плюральности мест к плюральности времен.
Философия и антропология местаПризнание позитивного смысла в различиях между обществами и культурами является основой теории многополярности. Мир многообразен, и это, во-первых — данность, а во-вторых — ценность. Общества, этносы, народы, страны и цивилизации, расположенные в разных зонах пространства земли, выражают различные «пространственные смыслы» («Raumsinn» Ф. Ратцеля). Так возникает представление о многополярной географии культур — культурная карта мира, представляющая собой мозаику самых разнообразных обществ, которые, сплошь и рядом, входят в более широкие ансамбли или, напротив, разделены между собой национальными административными границами.
Многополярная теория имеет дело, в первую очередь, именно с такой культурной географией, или антропогеографией, с антропогеографической картой мира. На этой карте наносятся, в первую очередь, общества, народы, этносы, религии, культуры как сложные и динамично развивающиеся живые организмы, локализованные в пространстве. Так складывается многополярная карта плюральности «человеческих мест», культурная топология мира. Она берется в многополярной теории за основную матрицу, базовый алгоритм, на который позднее накладываются политические границы, экономические сети, зоны распределения природных ресурсов и военно-стратегические объекты. Общество в его привязке к пространству — первично, остальное вторично. Различия между «человеческими местами» определяют все остальное — включая самые технические и искусственные формы промышленной или военной организации пространства.
Так выстраивается философия пространства, философия места. А. Геттнер называл ее «хорографией» (или «хорологией»), учением о качественном пространстве303.
Многообразие «человеческих мест» создает первичную структуру мира; все общества, сосуществующие в разных секторах такого мира, являются рядоположенными и равноправными, а отношения между ними развиваются по логике жизненного развития — активные общества расширяются, мобилизуются, развиваются, пассивные — сужаются, отступают, закрываются. Любая попытка управлять этим процессом является заведомо расистской, так как автоматически служит интересам какого-то конкретного общества в ущерб другим. «Человеческие места» следуют сценариям, заложенным в структурах их культуры, и на ее основе решают проблемы, которые выдвигает окружающий мир в своих трансформациях. И все они делают это собственным совершенно оригинальным способом.
«Теорию мест» развил известный японский философ Китаро Нишида, который, занявшись изучением европейской философии, и в первую очередь феноменологии, пришел к выводу, что наряду с типично европейской моделью рациональности, оперирующей логикой, построенной на принципе «идентичности» объекта, существует альтернативная рациональность (свойственная, например буддистско-японской культуре), где вместо «идентичностей» фигурируют «места»304. К. Нишида назвал это «логикой мест» («basho» — по-японски «место»). В отличие от «идентичностей», которые подразумевают жесткие логические конструкции («есть/нет», «истина/ложь»), «логика мест» основана на включающем принципе — оппозиции могут сосуществовать, не отвергая друг друга, наряду друг с другом в системе сложной конструкции «мест» («tonoi»). Высшим «местом», согласно К. Нишиде, является «пустота» или «ничто» («mu» — по-японски), которое включает в себя все остальные места и является их основой. Государство (культура, общество) также является «местом» (топосом), которое предваряет и замещает «ничто», но зато включает в себя все остальное. Все остальные места (внутри государства/общества) включаются в него, хотя и сохраняют своеобразие, различия, особенности и противоречия. Соответственно, другие государства/общества, вне Японии, в свою очередь, являются высшими «местами» для всего того, что в них включено, и получают из этого свою реальность, свое бытие и свой смысл. Философия К. Нишиды и теория «басё» прекрасно укладывается в общий подход к проблеме места, пространства в многополярной теории.
Г. Гурвич: время как социологическое явление
От признания пространственного плюрализма, на котором строится теория многополярности305, следует перейти к более тонкому принципу «плюральности времен». Как показали классики социологической мысли (Э. Дюркгейм, М. Мосс и особенно русско-европейский социолог Георгий Гурвич (1896–1965)), «время» есть категория социальная, и в каждом обществе существует свое особое «время», и даже не одно, а сразу несколько306. Это значит, что разные общества, даже сосуществующие в одном и том же физическом времени, с точки зрения собственной истории и культуры находятся в различных периодах. У этноцентрумов преобладает «вечное возвращение». К этносам, вступившим в историю, приходит поступательное время, направленное на реализацию общей судьбы и общего проекта (в настоящем и будущем). У разных религиозных культур — свои представления о логике и цели истории, о мессианстве, о циклах и о целях. Современные национальные государства оперируют с физическим временем и, в целом, разделяют западноевропейские модели «темпоральности». Постмодерн несет с собой еще одну модификацию времени — постисторию, игровое рециклирование фрагментов прошлого, ироническое время307.
Каждое «место» земли, где находится то или иное общество, имеет, таким образом, свое социальное время, которое часто складывается из наложения друг на друга различных темпоральностей. Поэтому их историческая синхроничность (одновременность) весьма условна: к общечеловеческому (а точнее, к западноевропейскому физическому и календарному времени) они относятся только одной стороной, которая вплетается в сложный контекст локальных времен. Речь идет не о том, что одни общества проделали больший путь в общей логике истории, а другие меньший (это и есть расистский подход). Сами структуры времени в каждом обществе могут быть различны, и нет никаких оснований считать, что все они движутся в одну и ту же сторону: некоторые из них, может быть, движутся туда же, куда и западное общество, а другие вполне могут двигаться в совершенно ином направлении в соответствии со структурой своей темпоральности и ее смысла, а могут вообще не двигаться никуда (как в случае этноцентрума). Нет никаких рациональных оснований для того, чтобы вырывать общества из их собственного времени и бросать в стихию времени западного, модернизировать их, делать их современниками глобального момента. Для большинства ныне существующих обществ глобализации как естественного момента их собственной истории еще не наступило и, возможно, не наступит никогда. Поэтому заставлять их считаться с нынешним «глобальным моментом» есть просто ничем не оправданное насилие.
Плюральность времен как норма
Философия многополярности, со своей стороны, признает плюральность времен как факт и как нормативное положение дел. Разные общества живут в разных временах и имеют на это полное право и основание. Эти времена могут течь в разных направлениях, как русла рек, могут сливаться и ветвиться, а могут, как озера, стоять на месте. Никто не должен осуществлять темпоральный диктат, навязывать другим эпоху или эру. Исламское общество отсчитывает свою историю от хиджры, христиане — от Рождества Христова, иудеи — от сотворения мира. Свои системы летосчисления есть у индусов, китайцев, буддистов. На земле до сих пор есть народы, которые вообще не знают времени, даже циклического (как некоторые племена аборигенов Австралии) и, значит, во времени они не нуждаются, и никто не смеет им его навязывать.
Так теория многополярности проводит линию позитивного толкования различия во всех сферах. Поэтому она представляет собой не просто наспех созданный «adhoc» набор идей и представлений, призванный сиюминутно оппонировать однополярности и глобализму, но готова проводить свой анализ вплоть до самых глубинных оснований человеческого общества, вплоть до философского осмысления бытия, человека, пространства, времени, мира.
Мир многополярной теории тоже многополярен. Он дифференцирован во всех отношениях и во всех проекциях. Он представляет собой открытый плюриверсум, в котором в разных направлениях и с разной скоростью движутся разные социальные жизненные организмы, сливаясь, отталкиваясь друг от друга, конфликтуя и входя в союзы и альянсы. Если этот жизненный поток бытия конкретных человеческих обществ и имеет какую-то общую парадигму, закон или алгоритм, то понять его возможно только через углубление в эту многообразную, плюралистичную и всегда дифференцированную стихию.
Горизонт общения (между этносами, культурами, народами, странами, обществами, людьми) многополярный мир отнюдь не ограничивает, но лишь подчеркивает, что для того, чтобы он был содержательным и осмысленным, необходимо тщательно учитывать культурные особенности каждого участника. Без этого обмен может проходить только в самых низменных, материальных и примитивных формах. А подходить к разным культурам с единым общим шаблоном — самый верный путь не понять в них вообще ничего, но общение свести к насилию и навязыванию всем чуждого им культурного кода.
К теории многополярности. Стратегические основы
Полюса и «большие пространства».
Понятие полюса в многополярной перспективеОт рассмотрения философских основ теории многополярности перейдем к ее стратегическим аспектам. Начнем с того, что понимается под «полюсом» в стратегическом смысле.
Во-первых, многополярность по контрасту с однополярностью и однополярной глобализацией (в узком — американско-империалистическом, и широком — общезападном, смыслах) предполагает, что карта будущего мира должна быть структурирована таким образом, чтобы на ней находилось несколько центров силы, не обладающих абсолютным превосходством в отношении друг друга и позволяющих разным обществам (вплоть до микроуровня) осуществлять свободный выбор блока, к которому примкнуть. Этих полюсов должно быть больше двух. Это принципиально. Данное положение вытекает из анализа фактического положения дел. В настоящее время ни у одной из крупных держав, или даже блока крупных держав, недостаточно потенциала, чтобы предъявить права на единоличное стратегическое оппонирование мощи США и стран НАТО.
Двухполярный мир завершился распадом СССР, и после СССР никаких серьезных претендентов на статус второго полюса нет. Поэтому французский политик Юбер Видрин предложил после 1991 года пользоваться не термином «сверхдержава» (применительно к США), а «гипердержава», чтобы подчеркнуть ее асимметричное превосходство, тогда как в противостоянии двух «сверхдержав» до конца соблюдалась определенная симметрия (по крайней мере, в стратегическом потенциале).
Ни современная Россия, ни Китай (как наиболее подходящие кандидаты на статус «второго полюса») не способны мобилизовать те мощности и ресурсы, которые были бы достаточны для конкуренции с США в стратегической сфере. У России проблемы с экономикой, демографией и нерешенностью многих социальных проблем, а Китаю, у которого с этими моментами все обстоит, наоборот, весьма благополучно, недостает природных ресурсов и развитой ядерной инфраструктуры. О других претендентах на второй полюс говорить не приходится. Из этого и вытекает стратегическая модель многополярного мира.
Если сейчас нет ни одной державы, которая была бы способна бросить вызов единоличной доминации США в мировом масштабе, то необходимо создать коалицию нескольких блоков, которые, преследуя в региональном контексте собственные стратегические интересы и противореча в чем-то друг другу, даже будучи основаны на различных цивилизационных типах и идеологиях, могли бы организовать одновременно несколько полюсов, объединенных главной стратегической идеей: блокированием американской гегемонии.
Однако в том состоянии, в котором находятся сегодня отдельные страны, практически все они не подходят на роль полюса даже в собирательной и множественной трактовке. Полюс многополярного мира, как и сам этот мир, должен быть составным, то есть представлять собой результат стратегической интеграции. Иными словами, стратегический полюс многополярного мира должен быть предварительно создан.
Теоретически полюс308 многополярного мира должен представлять собой мощное военное, экономическое, демографическое, политическое, географическое и цивилизационное образование, которое было бы способно осуществить стратегическую интеграцию прилегающих к нему территорий, выступая как результирующий вектор широкого спектра региональных интересов и представляющих их совокупно перед лицом глобализма и однополярности, осознанных как вызов. При этом такой полюс заведомо должен быть достаточно дифференцированным по внутренней структуре, чтобы служить центром притяжения для разнообразных, часто противоречивых, региональных держав и политических сил. И вместе с тем он должен быть способен выстроить систему стратегического партнерства с другими потенциальными полюсами многополярного мира — даже теми, с которыми существуют локальные разногласия.
Структурным примером того, что могло бы стать типичной формой полюса многополярного мира, является Евросоюз. Это политическое пространство, объединенное цивилизационно, исторически, культурно, экономически, социально, энергетически и т. д. При том, что Европа была ареной кровопролитного противостояния европейских держав, их агрессивного соперничества, жесточайших мировых войн, ее территория — «европейское место» — была постепенно интегрирована и через серию сложных и проблематичных ситуаций вышла на уровень федеральной государственности, во главе которой стоит сегодня, пусть символический, но президент (Херман Ван Ромпей).
Геополитически идентичность Европы является двойственной, в ней наличествуют как атлантистские (морские), так и континенталистские (сухопутные) черты и, соответственно, центры сил. Атлантистская идентичность Европы выражается в том, что она в целом поддерживает однополярную модель, но стремится обеспечить распределение ролей в рамках «ядра» («богатого Севера»), чтобы при проведении глобальной стратегии Вашингтон учитывал и европейские интересы («многосторонний подход» — multilateralism). Континенталистская идентичность Европы (представленная традиционно, в первую очередь, Францией и Германией, а также другими крупными промышленными странами — Италией и Испанией) вполне сочетается именно с многополярным подходом, предполагает стремление к независимости от США и ограничению американской гегемонии в мировом масштабе, к превращению Европы в самостоятельный геополитический центр силы, к созданию социально-политической системы не столько на основе либерализма, сколько на принципах социал-демократии (не англосаксонский индивидуализм, но европейская континентальная социальность и солидарность), к созданию собственных европейских вооруженных сил и, в конечном итоге, к превращению Европы в самостоятельный полюс. Если допустить, что континентальная идентичность в Европе берет верх над атлантистской, в лице Евросоюза мы в перспективе получаем законченный полюс многополярного мира.
Аналогичный евроинтеграции сценарий можно представить себе и в иных зонах мира. Интеграция постсоветского пространства вокруг России на сходных принципах — одна из версий создания нового полюса. Принципиальными моментами здесь является интеграция России с Белоруссией и Украиной на западе и Казахстаном на юге, с созданием вокруг этих четырех «ядерных» государств гибкого интеграционного поля, привлекательного для соседних стран — как входивших ранее в состав СССР, так и не входивших (Болгария, Румыния, Словакия, Сербия, Македония на западе, Монголия — на востоке).
Аналогичные полюса в ходе региональной интеграции могут создаваться и уже создаются и в иных зонах. Китай и Индия по своим демографическим показателям уже представляют собой почти готовые полюса. Колоссальный экономический потенциал Японии и некоторых других тихоокеанских драконов (Южная Корея, Сингапур, Тайвань) позволяет предположить их возможную коалицию, которая также может при определенной конфигурации претендовать на статус полюса. В более отдаленной перспективе полюсом может стать арабский мир, интегрированная Латинская Америка и Транссахарская Африка.
Полюсом многополярности не может быть отдельно взятое национальное государство. В некоторых ситуациях (Китай, Индия, Россия) национальное государство может стать ядром интеграции, в других случаях (Евросоюз, Тихоокеанский регион, Латинская Америка, арабский мир) интеграция будет складываться вокруг нескольких ядер. Но во всех случаях для того, чтобы получить законченный полюс, необходимо пройти путь стратегического объединения довольно разнородных территорий.
Если представить себе формирование таких региональных полюсов в ходе интеграционных процессов на региональном уровне и допустить, что их уже два или три (кроме США и зоны их приоритетного влияния в пределах двух Америк), то мы получаем реальный остов многополярного мира, который фундаментально ограничит американскую гегемонию и поставит на пути «однополярной глобализации» весьма существенную преграду. И даже если каждый из этих полюсов будет поодиночке сильно уступать мощи США, их совокупный потенциал и слаженная дипломатическая позиция могут радикально изменить общую структуру миропорядка.
Понятие «большого пространства»
как оперативный концепт многополярностиФилософия многополярности такова, что даже в условиях региональной интеграции (при создании полюса многополярного мира) требует учета многообразия локальных обществ как органических и культурных явлений. Поэтому для выстраивания многополярного миропорядка и осуществления интеграционных процессов необходим особый концептуальный инструментарий, более гибкий и дифференцированный, нежели жесткие модели национальной государственности, пусть и воспроизводимые в формате нескольких стран. Совсем необязательно, и даже нецелесообразно, присоединять одни страны к другим или создавать на основе нескольких стран новые государства. Такой подход несет на себе отпечаток европейского универсализма Нового времени, а именно этому и стремится противостоять многополярная философия. Поэтому гораздо полезнее оперировать с другими концептами, которые будут корректно описывать интеграционные процессы и обосновывать их на стратегическом уровне. В этом случае оптимально подходит выдвинутый Карлом Шмиттом принцип «большого пространства»309 (разработанный на основании опыта американской интеграции и глубинного переосмысления тезиса Карла Хаусхофера).
Концепт «большого пространства» в теории многополярности играет центральную роль. Он подчеркивает стратегический масштаб интеграции, устанавливает ее параметры, определяет конкретные цели, описывает необходимый минимум территорий, демографических и экономических показателей, уровень энергетической обеспеченности, культурные и исторические границы земель, подлежащих интеграции. Но при этом намеренно не утверждает ничего конкретного относительно формы государственного устройства, политической системы или административного управления этим создающимся «большим пространством». Любая конкретизация может пойти только во вред. Более того, разные «большие пространства» могут быть политически организованы совершенно по-разному. В одном случае они могут объединиться в общую государственность, в другом — полностью сохранить уже существующие административно-политические формы, в третьем — переформатировать общую зону на основании новых (например, культурных, религиозных или этнических) установок. Важен не правовой статус новой интегрированной структуры, но ее стратегическая композиция, ее границы, центры управления, масштаб и размах.
«Большое пространство» может стать принципом всей многополярной стратегии. Многополярный мир должен мыслиться как порядок «больших пространств». Не одного глобального общего пространства, но мозаики из нескольких зон.
Концепт «большого пространства» может быть масштабирован. В своем максимальном выражении он может совпадать с концептом полюса — одного из нескольких в рамках общей многополярной системы. Но это самый крайний случай. Как правило, реалистичный взгляд на баланс сил и интересов в нашем мире подсказывает, что интеграционных зон может быть несколько больше, нежели полноценных полюсов, но при этом намного меньше, нежели официально признанных государств. Полюс многополярного мира может состоять из нескольких больших пространств, сохраняющих в его структуре относительную самостоятельность, подобно тому, как внутри самого «большого пространства» будет сохраняться автономия более мелких единиц — государств, этнических и религиозных групп и т. д.
Статус «цивилизация» и принцип «империи»
Если бросить взгляд в историю, что в качестве прецедента «больших пространств» можно взять две формы социальной интеграции: 1) культурную, выражением которой является цивилизация, и 2) политическую, проявляющуюся в форме империи. Цивилизация представляет собой «большое пространство», которое объединено философией, культурой, образом мыслей, терминологическим аппаратом на основании одного или нескольких языков, в некоторых случаях — религией или культом, однако в ней отсутствует стратегическое единство и централизованное управление. Империя, в первую очередь, это именно единство и централизация с точки зрения политической власти, а культурная близость обществ, входящих в империю, вторична и производна.
Обе исторические формы «большого пространства» отличаются сочетанием (в принципиально разных пропорциях) локального разнообразия (форм управления, организации, этнической и религиозной идентичности и т. д.) и общего для всех единого начала. На основании цивилизации могли строиться империи (например, Александром Македонским), а исчезнувшие империи оставляли после себя общее цивилизационное поле (например, исламский мир после распада халифата). Это показывает, что «цивилизация» и «империя» являются исторически взаимообратимыми явлениями: одно может сосуществовать с другим или возникать на месте другого. Это чрезвычайно важное замечание показывает, что между цивилизацией (культурным единством) и империей (политическим единством) существует непрерывность. И воплощается эта непрерывность в пространственном выражении: и цивилизация, и империя представляют собой «большие пространства» в геополитическом и социологическом смысле; общества, располагающиеся в пределах этого пространства, имеют в своих структурах некоторые сходные парадигмальные элементы. Если учесть, что общество как раз и производит пространство (А. Лефевр) и что его структуры отражают и одновременно конституируют пространство, эта закономерность становится легко объяснимой. Все исторические «большие пространства» (как империи, так и цивилизации) располагались в конкретных географических зонах с плавающими границами, но общим ядром и общей пространственной структурой. Поэтому можно утверждать, что некогда единые территории на новом историческом витке могут быть вновь, рано или поздно, интегрированы — по крайней мере, до тех пор, пока общая структура пространства остается неизменной и отражается в живущих на этом пространстве и организующих его обществах («вмещающий ландшафт»).
Примеров этому можно привести множество. Так, с ритмическим постоянством степные зоны Евразии объединялись тем или иным кочевым народом, становясь частью единой степной империи или нескольких империй. От скифов, сарматов, тюрок, хазар до монголов и русских эти территории периодически собирались в единое стратегическое пространство — с разными этническими ядрами, идеологиями и социальными системами. Эта зона представляет собой геополитический Туран, где можно до сих пор обнаружить следы общей евразийской культуры и цивилизации, объединявшей различные этносы, племена и религии. В монгольской, а затем в русской государственности (империя) это культурное единство получило свое наивысшее выражение.
Другой пример — современная Европа. Некогда она представляла собой пространство Римской империи, которая вначале распалась на две составляющие (Восточную и Западную империи), а в Новое время окончательно раскололась на суверенные национальные государства. Однако европейская культура и европейская цивилизация оставались общими для разных европейских этносов, и через много веков после исчезновения империи политическое единство Европы возродилось в новом качестве — в форме Евросоюза.
Эти примеры показывают, что «большое пространство» как главный интеграционный концепт теории многополярности является чрезвычайно продуктивным для оперирования со столь разнородными явлениями, как культура и политика. В «большом пространстве» как самостоятельной категории эти явления сходятся в той социологической матрице, которая предшествует их окончательному оформлению и представляет собой модель отношения нескольких обществ к единому пространству, осмысленному и воспринятому как единое и общее.
Поэтому термин «цивилизация» может иметь политический и геополитический смысл, а термин «империя» — соответственно, цивилизационный. Итак, мы получаем формулу:
империя
большое пространство
цивилизация
Культурная и политическая унификация пространства имеют общий корень и могут перетекать друг в друга в зависимости от конкретных исторических обстоятельств. Если рассмотреть под этим углом зрения идеи Самуила Хантингтона относительно столкновения цивилизаций, мы увидим, что они не лишены основания в том смысле, что культурное единство цивилизации вполне может в некоторых ситуациях быть дополнено стратегическим компонентом, чего не учитывали критики Хантингтона, посчитав, что он переоценил значение культурного фактора310. Поэтому то, что сегодня является «цивилизацией», завтра может стать «империей», так как в основе и того и другого лежит общая матрица — «большое пространство».
Эта обратимость культурного единства в стратегическое должна пояснять всю фундаментальность понятия «большое пространство», его значимость для многополярного мира. Многополярный мир должен строиться на условиях естественного исторического выбора обществами своих ориентиров развития, а следовательно, на основании их культурной парадигмы. Введение концепта «большое пространство» показывает, как трансформировать культуру в политику в тех случаях, когда это становится необходимым. Однако понятие «империя» следует воспринимать технически, в отрыве от исторических коннотаций — как политологический термин оно означает не более чем стратегическое единство с сохранением широких локальных автономий и разной степени социально-политической интеграции различных частей единого целого.
В этом смысле империя теоретически сочетается с федерализмом, но противоречит понятию национального государства, которое проводит полную унификацию населения в правовом, образовательном, языковом и культурном аспектах, а также оперирует не с коллективными акторами (как империя, допускающая в своих пределах широкую политическую независимость отдельных составляющих), а с индивидуумами.
Если «империя» все-таки звучит слишком определенно, а «цивилизация», напротив, слишком расплывчато, термин «большое пространство» является оптимальным со всех точек зрения и точно отражает сущность теории многополярности.
Структура идентичностей в многополярном мире.
Новая таксономия акторовТеория многополярности должна представить свой собственный проект, а также того, кто в многополярном миропорядке будет считаться главным актором внешней политики и международных отношений. Вестфальская система предлагает на этот вопрос однозначный ответ: национальные государства. В эпоху «холодной войны» реальными акторами были центры идеологических блоков (две сверхдержавы). В глобализме остается один актор — «ядро» (Core) мировой системы или «мировое правительство». В противовес этому теория многополярности выдвигает плюральную модель акторов, предлагая новую и оригинальную многополярную таксономию.
Полноценным стратегическим суверенитетом в многополярном мире будут обладать те инстанции, которые мы обозначили как «полюса». Это огромные стратегические образования, которых будет заведомо ограниченное количество: больше двух, но намного меньше, чем потенциальных «больших пространств». Это означает, что каждый полюс должен обладать единым командованием общих вооруженных сил и эта инстанция должна находиться в подчинении стратегического руководства полюса. В компетенции этой высшей стратегической инстанции будут входить только самые острые вопросы — такие, как война и мир, применение и неприменение силы, введение санкций и т. д. Приблизительно такую функцию выполняет сегодня Совет Безопасности ООН, но только в совершенно иной модели, которая чрезмерна по формату, не соответствует новой расстановке сил в мире, а потому неэффективна. Совет Безопасности «полюса» можно также уподобить руководству сплоченного военного блока — такого, как НАТО или ОДКБ.
Эта инстанция будет принимать также стратегические решения макроэкономического, энергетического и транспортного характера, затрагивающие все пространство, находящееся в ведении полюса.
На следующем уровне будут располагаться центры, ответственные за интеграцию «больших пространств». Их структура должна быть похожей на структуру правительств конфедеративных государств, где все решения принимаются по принципу субсидиарности, то есть, чем локальнее проблема, тем больше полномочий ее решения сосредоточено на низших инстанциях самоуправления. Лишь общие вопросы, затрагивающие все «большое пространство» целиком, должны находиться в ведении «центров интеграции». Так как правовой статус «больших пространств» может существенно варьироваться, то и юридическая форма их управляющих инстанций может представлять собой как наднациональный орган, где участвуют главы государств, входящих в большое пространство (если национальные государства сохранятся), так и иные формы конфедеративной или федеративной организации (при более тесной интеграции).
На еще более низком уровне теория многополярности допускает весьма широкую форму «правовой» субъектности. Здесь будут располагаться как национальные государства, так и разнообразные формы иных социальных систем, у которых не будет нужды в национальном государстве, так как все стратегические решения будут приниматься на более высоком уровне. Вопросы, которые будут находиться в пределах компетенции инстанций, расположенных ниже, нежели центры «больших пространств», будут иметь преимущественно социальный характер, то есть представлять собой процесс организации разных общественных групп в соответствии с их культурной, исторической, этнической, религиозной, профессиональной спецификой.
В целом «большое пространство» представляет собой наложение многих социальных систем разного качества и разного формата, каждая из которых организована в соответствии со своими естественными жизненными и историческими параметрами. Задача многополярного подхода в том, чтобы обеспечить максимальную дифференциацию социальных единиц, предоставив общинам и обществам максимум свободы в выработке форм самоуправления и социальной организации. И этноцентрумы, и консолидированные историей народы, и государственные образования, и религиозные общины, и новые формы социальности — все это станет возможным в рамках многополярной модели организации общества без утверждения жестких общеобязательных нормативов. Все вопросы, не затрагивающие самых общих стратегических позиций полюса и процесса интеграции «больших пространств», будут делегированы на максимально возможный локальный уровень, свободный от контроля высших инстанций. Любые сегменты общества смогут организовать свое бытие и свое пространство в соответствии со своими представлениями, силами, возможностями, желаниями, традициями и структурами воображения.
Схему властных инстанций в многополярном мире можно представить себе так, как на схеме, описывающей структуру полюса многополярного мира.
Высшее стратегическое руководство сосредоточивается на уровне полюса, но затрагивает очень небольшой спектр вопросов, касающихся только самых принципиальных и общих для жителей данного «мирового региона» тем. Ниже находятся интеграционные инстанции «больших пространств». А далее следует сложная (отмеченная на схеме произвольной системой упорядочивания и накладывающимися друг на друга формами) конфигурация более мелких акторов, среди которых не выстраивается никакой политической, управленческой, правовой или статусной иерархии. Каждое общество, на какой бы основе оно ни было организовано, может оказаться в любой форме соподчинения или полной автономии по отношению к иным инстанциям, в зависимости от конкретного случая. Где-то религии могут быть поставлены выше этничности и государственности, где-то наоборот; где-то один и тот же этнос, религиозная общность или иная форма устойчивого коллектива окажется принадлежащей к разным государственным или социальным формам и т. д. В многополярном мире нет нормативных правил, которые претендовали бы на универсальность. Сколько обществ, столько и вариантов их организации.
Китаро Нишида: «логика басё» и вопрос идентичности
Вопрос об идентичности решается в организации общества на многополярных началах не в духе европейской рациональности, но скорее в духе «логики мест» (басё) Китаро Нишида311, когда одна идентичность не исключает другую, но накладывается на нее, включая в себя все, даже противоречивые формы, поскольку все «места» (К. Нишида) суть причудливая игра высшей идентичности «небытия» (mu), в которой у человека есть одна задача — впустить в себя социальную культуру как момент освящения. В этом процессе соблюдается только главное правило: коллективная идентичность более важна, нежели индивидуальная. Человек определяется тем, к какому обществу и, соответственно, к какой культуре он принадлежит. Не общество производно от человека, но человек есть производная от общества. А так как вариации обществ и их соподчинений огромна, то и человеческая идентичность и ее структуры оказываются безграничными. Ригидные социальные системы (такие, к примеру, как «этноцентрумы») минимализируют индивидуальную идентичность, сводя ее почти к нулю312. В других социумах — например, в обществах монотеистических религий — значение личности намного выше и сочетается с другими формами неиндивидуальной идентификации (но и этот повышенный статус индивидуального начала есть не что иное, как следствие социальных установок).
В национальных государствах индивидуальная идентичность становится доминирующей, а в гражданском обществе — единственной. Но и в этом случае исключительность индивидуальной идентичности есть результат специфической организации общественной парадигмы, а отнюдь не самого индивидуума. Чтобы осознать себя как индивидуальность, надо быть помещенным в социальную (внеиндивидуальную, нормативную) среду, которая сделает это установкой и ценностью.
Многополярная теория признает все формы идентичности, но рассматривает их в социальном контексте и не предлагает никакой иерархизации. Одна коллективная идентичность ничем не лучше и не хуже другой, то же верно и в отношении индивидуальной идентичности, если речь идет об обществе, которое наделяет личность автономной онтологией. Такой подход предполагает уважительное отношение ко всем социальным системам и настаивает лишь на том, чтобы предоставить им свободу органического становления.
Жесткая или открытая и гибкая идентификации имеют свой смысл только в конкретном социальном контексте, в отрыве от которого они не могут быть ни поняты, ни сравнены между собой.
Согласно Китаро Нишида, общественное благо реализуется через дезиндивидуализацию сознания собственного присутствия313. Когда человек понимает, что не он живет, но социальное сознание живет сквозь него, он становится самим собой, обретает свое «место», свою идентичность. Как к таковому к «благу» необязательно стремиться, достаточно того, чтобы идентифицироваться с общим (с общиной, государством, социальной группой). В этом случае не имеет значения, хорошее ли это общество или плохое, справедлив ли правитель или, напротив, тиран или самодур. Все эти оценки не имеют ни смысла, ни автономного бытия: необходимо лишь хорошо служить коллективной идентичности, стирая свое «я» ради исполнения своего явления в человеческом виде — и тогда цель будет достигнута. Если хорошо работать на любой коллектив и истово служить любому правителю, благо будет реализовано: коллектив станет здоровым, а правитель — соответствующим ситуации.
Это правило действует и в отношении современного западного общества, поскольку, если пройти путь абсолютного индивидуума и абсолютной свободы до конца (как в теории предлагает либерализм), то выйдешь к фундаментальной онтологии, Dasein’у и традиции (только с другого конца)314.
Национальное Государство и многополярный мир
Один из важнейших пунктов теории многополярности касается национального государства. Суверенность этой структуры была поставлена под сомнение уже в эпоху идеологического противостояния двух блоков («холодная война»), а в период глобализации эта тема приобрела еще более острую актуальность.
Мы видели, что глобалистские теоретики либо говорят о полной исчерпанности «национальных государств и о необходимости перехода к «мировому правительству» («ранний» Ф. Фукуяма315), либо считают, что национальные государства еще не выполнили своей миссии до конца и должны просуществовать еще какой-то исторический период, чтобы лучше подготовить своих граждан к интеграции в «глобальное общество» («поздний» Ф. Фукуяма316).
Многополярная теория рассматривает национальные государства как явление евроцентрическое, механистическое и в каком-то смысле «глобалистское» в начальной стадии (идея нормативной индивидуальной идентичности в форме гражданственности подготавливает почву для «гражданского общества» и, соответственно, «глобального общества»). То, что все пространство мира разделено сегодня на территории национальных государств, есть прямое следствие колонизации, империализма и проекции западной модели на все человечество. Поэтому самостоятельной ценности для теории многополярности национальное государство в себе не несет. Тезис о сохранении национальных государств в перспективе построения многополярного миропорядка важен только в том случае, если он прагматически препятствует глобализации (а не способствует ей) и скрывает под собой более сложную и выпуклую социальную реальность: ведь многие политические единицы (особенно в Третьем мире) являются национальными государствами лишь номинально, а по сути, представляют собой те или иные формы традиционных обществ с более сложной системой идентичности.
Позиция сторонников многополярного мира здесь полностью противоположна глобалистам: если национальное государство проводит унификацию общества и содействует атомизации своих граждан, то есть осуществляет реальную углубленную модернизацию и вестернизацию, то такое национальное государство не имеет никакой ценности и является лишь разновидностью глобализационного инструментария. Такое национальное государство не заслуживает сохранения и не имеет смысла в многополярной перспективе.
Но если национальное государство служит фасадом иной социальной системы — особой самобытной культуры, цивилизации, религии и т. д., то его следует поддерживать и сохранять, ориентируясь на его грядущую эволюцию в более гармоничную структуру в рамках социологического плюрализма в духе многополярной теории.
Позиция глобалистов прямо противоположна во всем: национальные государства, служащие фасадом традиционному обществу (такие как Китай, Россия, Иран и т. д.), призывают демонтировать, а национальные государства с прозападными режимами — Южная Корея, Грузия, страны Восточной Европы — напротив, укрепить.
Четырехполюсный мир. Квадриполярная карта альтернативного мира. Обращение к пан-идеям
Все вышеприведенные теоретические соображения, касающиеся стратегического устройства многополярного мира, можно вполне применить к существующему положению вещей и предложить — в качестве одной из возможных версий — модель будущего многополярного мироустройства, соответствующего всем перечисленным условиям. Назовем эту модель «квадриполярностью», или «четырехполюсным миром»317. Эта конструкция основывается на нескольких исходных источниках:
• на новой актуальности геополитики пан-идей (Куденоф-Каллерги, К. Хаусхофер);
• на учете геополитической стратегии CFR и «Трехсторонней комиссии» в отношении трех мировых регионов (США, Европы и Тихоокеанского ареала);
• на анализе роли и места современной России в мировой политике.
Применив идеи многополярной теории к анализу настоящего момента и основываясь на геополитических методологиях, мы можем обрисовать следующую картину.
Потенциальный многополярный мир в своей четырехполюсной версии (квадриполяризм) представляет собой четыре мировые зоны, которые делят земной шар по меридиану. Приблизительно так выглядела и карта К. Хаусхофера в случае реализации пан-идей.
В первой зоне располагаются два американских континента. Это первый полюс. Его центр находится в Северном полушарии и совпадает с США. Эта модель воспроизводит доктрину Монро или статус США как великой региональной державы, пика который она достигла к концу XIX столетия, освободившись от европейского контроля и, напротив, установив свой контроль (экономический и политический) над большинством стран Латинской Америки.
В составе этой зоны, находящейся под стратегическим контролем полюса США, можно выделить два или три «больших пространства». Два — в том случае, если объединить близкие по социально-политическому и культурному укладу США и Канаду в одно «большое пространство», а всю Латинскую Америку по тому же признаку оформить в другое «большое пространство». Три «больших пространства» получаются в том случае, если мы разделим те латиноамериканские страны, которые достаточно глубоко интегрированы с США и находятся полностью под их контролем, и те, которые тяготеют к созданию собственной геополитической зоны, противостоящей США (к чему явно склоняются Куба, Венесуэла, Боливия и неявно Бразилия, Чили и т. д.).
Во второй зоне, правее на карте мира, находится область Евро-Африки. Полюсом этой зоны, очевидно, является Евросоюз, бесспорный политический и экономический лидер в этих границах и центр притяжения для всей этой меридиональной зоны. Мы рассматриваем многополярный сценарий и, следовательно, по умолчанию считаем, что в такой Европе преобладает континентальная ориентация, трансатлантические связи ослаблены, расшатаны или вообще порваны и все стратегическое внимание Европы обращено к Югу. В этой зоне намечается три «больших пространства» — сам Евросоюз, арабское «большое пространство» (преимущественно исламское) и Транссахарская (черная) Африка. Все три «больших пространства» имеют ярко выраженные культурные и цивилизационные черты, строго отличные друг от друга, но отнюдь не взаимоисключающие. Так как многополярность понимает интеграцию как партнерство только высших политических и стратегических инстанций, то смешение между собой разнообразных обществ, входящих в эти три пространства, ни в коей мере не предусмотрено. Процессы межкультурного, социального, этнического, экономического обмена могут развиваться по естественной логике, но никаких универсалистских рецептов здесь не должно существовать. Общества могут жить отдельно, не пересекаясь без необходимости, а общее стратегическое планирование проводиться на уровне полномочных и компетентных представителей всех трех «больших пространств».
Следующая зона — и она является ключевой во всей картине — это Евразия. Здесь полюсом выступает Россия (Heartland). Вместе с тем в этой зоне есть ряд важнейших региональных центров силы: Турция (если она выберет евразийский, а не европейский путь интеграции, что вполне вероятно), Иран, Индия, Пакистан. Здесь мы имеем дело с несколькими «большими пространствами» и их наложениями. Русско-евразийское «большое пространство» включает в себя Российскую Федерацию и страны СНГ. Турция, Иран, Пакистан и Индия сами по себе представляют «большие пространства», тогда как Афганистан находится в точке, на которую оказывают давление все региональные центры сил (за исключением Турции и Индии, хотя в отношении Индии земли Афганистана занимают ключевое положение, что было давно системно осмыслено строителями Британской империи318).
Именно против самой возможности наличия такого стратегически консолидированного евразийского пространства ориентирована вся мощь атлантизма и глобализации. Трехсторонняя комиссия и проекты CFR как периода Второй мировой войны, так и послевоенного периода, а также вся геополитика «холодной войны» были направлены к одной цели: не допустить сближения СССР (Heartland) с другими региональными державами на юге от его границ. Именно поэтому вторжение советских войск в Афганистан вызвало столь резкую реакцию у США. Стратегически однополярный мир и процессы глобализации возможны только в том случае, если евразийской стратегической зоны не существует, выход России (Heartland) к теплым морям блокирован, а ее интеграционный потенциал крайне ограничен. И наоборот: многополярный мир, организация миропорядка на принципах «цивилизации Суши» зависит только и исключительно от того, удастся ли России создать стратегический блок с мощными азиатскими державами, расположенными к югу от ее границ.
И наконец, четвертой зоной является Тихоокеанский регион, где на роль полюса претендуют две державы — Китай и Япония. Эта зона может быть сконфигурирована различным образом, так как в ней велико и цивилизационное влияние Индии. Китай сам по себе — «большое пространство» (особенно если учесть концепцию «Большого Китая», куда относят также Тайвань, Сингапур и Гонконг319), а Япония обладает всеми данными для того, чтобы создать «большое пространство» вокруг себя как мощного центра геополитического, экономического, технологического и стратегического излучения.
От атлантистского сценария однополярности квадриполярность принципиально отличается структурой геостратегических осей. Они идут строго с Севера на Юг вдоль меридианов, полюса интеграции находятся в Северном полушарии, а их влияние распространяется глубоко в области Юга и на Южное Полушарие, тогда как атлантистская модель построена по принципу окружения Евразии (Heartland’а) с Запада (Европой с доминацией атлантистской идентичности) и с Востока (союзными США странами Тихоокеанского региона — в первую очередь Японией).
Четвертая политическая теория
и четвертый номос ЗемлиТак как однополярный мир и глобализм (мондиализм) представляют собой идеологию (или метаидеологию), основанную на либерализме, то многополярный мир также должен иметь определенные идеологические установки. Однако здесь возникают трудности. Старые идеологии, оппонировавшие либерализму (фашизм и коммунизм), исторически рухнули, не только потому, что проиграли, но и потому, что содержали в своих структурах своего рода идейный вирус, который — наряду с внешним давлением (либерализма) — и обеспечил их поражение. В политологии принято называть все версии либерализма и либеральной демократии «первой политической теорией», коммунизм — «второй», а спектр идеологий, так или иначе близких к европейскому «Третьему Пути» — «третьей политической теорией».
Современная глобализация строится на основании «первой политической теории», но возведенной к ее парадигмальной цивилизационной матрице — к чистому выражению «цивилизации Моря». Поэтому глобализация предполагает трансформацию либерализма в более общую структуру: из классической идеологии или политической теории либерализм (точнее, неолиберализм) превращается в планетарную метаидеологию, которая, с одной стороны, сливается с самой атлантистской «морской» социологической матрицей, а с другой — переходит с уровня идей на уровень вещей, входит в сами вещи окружающего глобализирующегося мира. Носителями этой метаидеологии отныне становятся не столько интеллектуалы, партийные и общественные деятели или СМИ, сколько сами технологии, формы финансовых взаиморасчетов, индивидуальные электронные номера, торговые сети, модные брэнды или бытовые приборы. Трудно придумать лучшего пропагандиста неолиберальной идеологии, чем сеть закусочных Макдоналдс, операционные системы Windows, поисковики Google, кредитные карты, ноутбуки и мобильные телефоны. Все эти предметы и технологии излучают идеологическую энергию, призывая «подключиться», «быть на волне», «следовать за новейшими тенденциями» и т. д. Метаидеология либерализма не убеждает, не аргументирует и не доказывает свою правоту и состоятельность, она ловит в глобальные сети жизненных практик, становящихся необходимыми, а далее инсталлирует себя, как компьютерную программу в hardware320.
Многополярный мир также должен основываться на идеологической базе или политической теории, которая убедительно оппонировала бы неолиберализму, но так же, как и он в сегодняшнем состоянии, представляла бы собой именно метаидеологию, отражая социологическую парадигму Суши. Будучи именно метаидеологией, политическая теория многополярности должна быть предельно общей, гибкой и способной включить в себя самые разные — подчас противоречивые — системы идей. Кроме того, по своей природе многополярность предполагает многообразие и различие, взятые как позитивные явления, и, значит, новая метаидеология не может быть догматической или жестко оформленной. Ее основной чертой будет именно противопоставление либеральному единообразию и стандартизации глобализирующегося человечества широкого спектра самобытных локальных и региональных возможностей — экономических, социологических, политических и культурных.
Так как «вторая» и «третья политические теории», существовавшие в иных исторических условиях, сегодня неприемлемы и неэффективны, следует поставить вопрос о выработке «четвертой политической теории»321. Именно в этом направлении и ведутся сегодня разработки российских социологов, политологов и философов322 и ряда европейских интеллектуальных центров континенталистской ориентации323.
«Четвертая политическая теория» в самом общем виде основана:
• на главном принципе свободы общества следовать своим историческим путем в любом направлении и создавать любые социально-политические и социокультурные формы324;
• на утверждении множественности времен наряду с линейным временем и «прогрессом», которые являются локальными социологическими феноменами, приемлемыми только в рамках западной цивилизации325;
• на признании полного равенства «западных» и «восточных», «современных» и «архаичных», «технологически и экономически развитых» и так называемых «отсталых» народов;
• на отвержении всех форм (явных и скрытых) расизма, в том числе расизма культурного, экономического, технологического, цивилизационного и т. д.;
• на признании права обществ создавать как религиозные, так и секулярные политические системы, или не создавать никаких вообще; теология и догматика (и даже мифология) могут выступать столь же серьезными основаниями для принятия политических решений, как и секулярная логика и рациональные интересы;
• на обязательной привязке социально-политических и культурных форм к пространству и истории как к конкретному семантическому полю, вне которого они утрачивают смысл;
• на выделении в качестве «базового актора» четвертой политической теории такой инстанции, как Dasein — различного у представителей разных обществ326;
• на признании множественности и различия высшими жизненными ценностями, покушение на которые (особенно в глобальном масштабе) должно повлечь за собой санкции всех политических и стратегических инстанций, признающих четвертую политическую теорию и многополярный миропорядок327.
Если обратиться к теории Карла Шмитта о «номосе Земли», то можно заметить одну важную закономерность. Ален де Бенуа пишет о ней так:
«Шмитт утверждал, что до сегодняшнего дня было три «номоса» Земли. «Первый номос» — это номос Древности и Средневековья, где цивилизации жили в некоторой изоляции одни от других. Иногда бывают попытки имперского соединения, как, например, империи Римская, Германская, Византийская. Этот номос исчезает с началом Модерна, когда появляются современные государства и нации, в период, который начинается в 1648 году с Вестфальским договором и завершается двумя мировыми войнами: это второй «номос государств-наций». «Третий номос Земли» соответствует биполярному регулированию во время «холодной войны», когда мир был разделен между Западом и Востоком; этот номос окончился с падением Берлинской стены и разрушением Советского Союза»328. И далее он добавляет:
«Вопрос заключается в том, каким будет новый номос Земли, четвертый? И здесь мы подходим к теме Четвертой политической теории, которая должна родиться. Это и есть «четвертый номос Земли», который пытается появиться на свет. Я думаю и глубоко надеюсь, что этот четвертый номос Земли будет номосом большой континентальной логики Евразии, Евразийского континента329».
Heartland в XXI веке. Россия как Heartland
Многополярный мир и сама возможность его построения напрямую зависят от главного фактора — от положения, состояния и поведения современной Российской Федерации в ближайшие годы и десятилетия, когда и будет решаться, каким быть «четвертому номосу Земли». Этот «номос» может быть либо глобалистским и однополярным, основанным на неолиберализме и сетевом обществе, либо многополярным, связанным с «порядком Суши» и «четвертой политической теорией». Все зависит от того, захочет ли и сможет ли Россия выполнить на этом критическом витке мировой истории ту миссию, ту задачу, которые диктует ей ее «пространственный смысл» (Raumsinn).
Это утверждение основано на холодном и отстраненном расчете и объективных данных геополитики — какую бы ее версию мы ни взяли («геополитику Моря», «геополитику Суши» или «геополитику Берега»). Геополитика оперирует с понятием Heartland и строит свою картину мира вокруг этой «географической оси истории» (Х. Макиндер). Россия есть Heartland. В этом выражается вся ее история и ее значение. Россия имеет смысл только как Heartland, как «цивилизация Суши», как континент. Поэтому, каким быть «Четвертому номосу Земли», зависит целиком и полностью именно от России.
Интерпретация Heartland’а в трех геополитиках
Это признают все школы и направления геополитики, кроме пропагандистских или псевдогеополитических исследований и публикаций, преследующих не научные, а иные цели. Но для «геополитики Моря» все сводится к тому, чтобы сделать императивное и желательное расчленение Heartland’а (его маргинализацию и фрагментацию) как условие глобализации и окончательного закрепления однополярности необратимым, реальным и окончательным. От того, удастся ли в достаточной степени ослабить, расколоть и дестабилизировать Россию, подчинить ее и ее фрагменты внешнему управлению, зависит во многом судьба глобализации. Поскольку пока этого не произошло и не снята с повестки дня возможность построения многополярного — четырехполярного — мира, значит, глобализация ставится под вопрос. За всем показным безразличием США и Запада к современной России скрыт плохо маскируемый ужас от допущения, что она может развернуться вспять в своем пока деградационном движении и выйти на новую историческую орбиту, как не раз бывало в прошлом.
Для «геополитики-3» («геополитики береговой зоны») Heartland и политическая судьба России также имеют огромное значение, поскольку только наличие «цивилизации Суши» дает возможность Rimland’у осуществлять стратегический выбор ориентаций и комбинировать определенные элементы (Моря и Суши). В противном случае какая бы то ни было роль этой зоны сходит на «нет», и она становится техническим приложением к США, своего рода «стратегической колонией».
Для «континентальной геополитики» ключевая роль России видится с противоположным знаком, чем для «геополитики Моря», так как «цивилизация Суши» и всех тенденций, находящихся с этой цивилизацией в резонансе, возникает шанс развиться и реализоваться на сухопутных (не атлантистских, не глобалистских, не однополярных) принципах, только если России удастся сохранить свой стратегический потенциал, территориальную целостность и политическую независимость. Только при наличии четвертой — евразийской — зоны многополярный мир может состояться. Как бы значительны ни были стратегические и экономические силы Евросоюза или Китая, при отсутствии полного российского контроля над Heartland’ом и ее участия в мировой реорганизации политического пространства на новых основаниях они рано или поздно окажутся под прямым контролем глобального «ядра», будут вынуждены принять его правила и законы и, тем самым, раствориться в «глобальном обществе». В одиночку же противостоять США они не будут в силах вообще никогда.
Место и роль России в многополярном мире
Для всех тех, кто всерьез намерен противостоять американской гегемонии, глобализации и планетарной доминации Запада (атлантизма), аксиомой должно стать следующее утверждение: судьба миропорядка решается в настоящее время только в России, Россией и через Россию. Принятие на себя Россией естественной роли лидера в строительстве многополярного мира является необходимым (но далеко еще не достаточным) условием для существования многополярности. Какие бы процессы во всех остальных странах и обществах ни проходили, они останутся локальными техническими возмущениями, с которыми глобализация рано или поздно справится. Единственный шанс к реализации интересов всех стран, обществ, политических и религиозных движений, которые не видят своего будущего иначе, нежели в многополярном мире, есть в России и в ее политике. При этом совершенно неважно, как те или иные силы относятся к России, к ее культуре, ее традициям и ее социальному укладу, ее политике и т. д. Это не имеет ровным счетом никакого значения.
Центральная роль России обусловлена структурой политической географии. Не случайно немецкий геополитик Карл Хаусхофер в разгар войны с СССР продолжал утверждать, что реализация сухопутной миссии Германии возможна только через союз с СССР («континентальный блок»), а белогвардеец П. Савицкий в 1919 году на фронте Гражданской войны предсказывал победу большевиков, так как они оказались способны консолидировать территории Heartland’а, а белых оттеснили к береговой зоне (то, что белые опирались на Антанту, было решающим аргументом в их поражении и в атлантистской идентичности этого движения).
Поэтому и в наше время о ключевом значении России для всей «цивилизации Суши» говорят преимущественно не сами русские, но иностранные геополитики континентальной ориентации (Ж. Парвулеско330, А. де Бенуа331, Э. Шопрад332 и многие другие).
Задачи Heartland’а
Задача России в такой ситуации заключается в реорганизации пространства Heartland’а таким образом, чтобы обеспечить себе реальный суверенитет. Поскольку это возможно только в контексте многополярного мира, то «эгоистическая» задача приобретает планетарный масштаб. Многополярный мир должен строиться одновременно в разных регионах; только через координацию и взаимное соучастие в создании «четвертого номоса Земли» на многополярной основе каждый участник этого процесса может обеспечить себе свободу и независимость. Суверенитет России напрямую зависит от того, сможет ли континентальная Европа добиться самостоятельности перед лицом США, а Китай — сохранить и укрепить свое влияние в Тихоокеанском регионе. В свою очередь, Европа и Китай, а также все остальные потенциальные «большие пространства» в еще большей степени зависят от способности России отразить вызов глобализации и создать систему евразийских континентальных альянсов. Поэтому стратегическая задача отстаивания собственной самостоятельности обществом, совершенно не похожим на другие общества, заставляет его тесно сотрудничать с потенциальными партнерами по многополярности, как бы далеко они ни находились.
Россия не сможет обеспечить свои стратегические интересы и свою безопасность в одиночку. Для этого она вынуждена вести активную политику в мировом масштабе. Но так как Россия есть Heartland, имеет ядерное оружие, гигантские запасы природных ресурсов, огромные территории, многовековую традицию отстаивания своей независимости и (что немаловажно) осознание собственной исторической миссии (на разных этапах выступавшей в разных формах — от православно-христианской до коммунистической), именно она становится ключом к реализации многополярного сценария и в случае других стран, не удовлетворенных однополярностью и глобализмом (Китая, Евросоюза и т. д.).
Практические шаги по строительству многополярного мира: основные ориентации. Многополярные оси
Реорганизация Heartland’а. Цели
Описав в самых общих чертах структуру многополярного мира, следует перейти к более прицельному геополитическому анализу конкретных направлений в его строительстве.
Рассмотрим основные векторы геополитической активности, которые качественно усилят совокупный потенциал Heartland'а, от чего зависит «быть или не быть» многополярному миру.
Основным принципом этой активности является стратегическая реорганизация пространства, окружающего Россию со всех сторон с тем, чтобы это:
• позволило России иметь прямой доступ к жизненно важным географическим объектам (портам, теплым морям, ресурсам, ключевым стратегическим позициям);
• обеспечило отсутствие американских военных баз и прямого политического влияния;
• предотвратило интеграцию в НАТО;
• способствовало дальнейшей интеграции на евразийской основе;
• благоприятствовало развитию многообразных социальных систем, отличных от глобалистского стандарта;
• укрепляло позиции держав и блоков, ориентированных многополярно, континентально и дистанцированно в отношении глобализации.
Для строительства многополярного мира Heartland должен консолидироваться, накопить ресурсы, мобилизовать социальные структуры, перейти к фазе повышенной геополитической активности, требующей интенсивной политической работы. Необходима своего рода «геополитическая мобилизация», а под нее — пересмотр инструментов, ресурсов и потенциальных преимуществ, которые в периоды инерциального развития не привлекают внимания.
Россия должна сделать геополитический прыжок, рывок, который резко вывел бы ее в новое качество. При этом надо как можно шире использовать те преимущества, которые можно получить в ходе интеграционных процессов. Одно дело рассматривать саму Россию и соседние страны как национальные государства, преследующие свои корыстные интересы (что диктует конкурентный, соревновательный подход, а то и соперничество), другое — оценивать потенциал соседей как часть единого стратегического пространства, которое необходимо создать. В этом случае требуется совершенно иной расчет и складывается совершенно иная картина возможностей.
Геополитическое сознание элиты
Началом строительства многополярного мира должно быть изменение сознания российской политической элиты, открытие ей континентального и планетарного геополитического горизонта, привитие ответственности за судьбу вверенного ей социального, политического, экономического и исторического пространства. Точно так же, как глобализм и построение однополярного мира основываются на методичном воспитании в атлантистском ключе нескольких поколений американской, европейской и мировой элиты (через закрытые клубы, экспертные организации, интеллектуальные корпорации, специализированные учебные заведения и т. д.), что включает в себя, кроме всего прочего, обязательный минимум в области геополитики и социологии, создание многополярного мира и реорганизация Heartland’а должны начинаться с геополитического пробуждения и воспитания российской элиты, активной подготовки ее к ответу на настоящие и будущие вызовы, с которыми она непременно столкнется. В этой сфере также строго необходим минимум геополитических и социологических знаний, а самое главное — широкий горизонт стратегического и исторического мышления, охватывающий общую картину трансформаций, проходящих с Россией и остальным миром в течение последних столетий. Элита России должна осознавать себя как элита Heartland’а, мыслить евразийскими, а не только национальными масштабами и ясно осознавать неприменимость для России атлантистского и глобалистского сценария. Только такая элита сможет осуществить необходимую геополитическую мобилизацию и эффективно проводить активную политику реструктурирования всего евразийского пространства в целях построения многополярного мира и в интересах безопасности России.
Западная стратегия Heartland’а. Heartland и США
Теперь рассмотрим общие параметры того, как должно происходить возрождение Heartland’а по основным направлениям в ходе строительства многополярного мира.
Начнем с западного направления.
Первым и наиболее фундаментальным моментом является модель выстраивания отношений России с США. В нынешних условиях это чрезвычайно трудная и деликатная тема. С точки зрения классической геополитики, а также исходя из радикальной противоположности глобалистского (однополярного) и многополярного сценариев, вся стратегия США направлена против Heartland’а: на его сдерживание, окружение, ослабление, фрагментирование и маргинализацию. Эта стратегия совершенно не зависит от конкретной американской администрации и персональных взглядов того или иного ответственного американского политика. США не могут не мыслить и не действовать так, поскольку в этом состоит постоянный вектор их планетарной стратегии (начиная с Вудро Вильсона), который дал убедительные результаты и привел США вплотную к мировому господству. Не может быть таких причин или аргументов, которые могли заставить бы США отказаться от мировой гегемонии и от строительства глобального мира, тем более что многим американцам представляется, что эти цели практически достигнуты. Требовать от США, чтобы они занимали какую-то иную позицию в отношении Heartland’а, кроме жестко и последовательно враждебной, просто безответственно и глупо.
Все то, к чему стремятся США в зоне евразийского материка, прямо противоположно стратегическим интересам Heartland’а и строительству многополярного мира. Эта противоположность взгляда на организацию политического пространства Евразии является абсолютной аксиомой, не допускающей ни исключений, ни нюансов. США хотят видеть Евразию и баланс сил в ней такими, чтобы это максимально соответствовало однополярности и глобализации. «Heartland» придерживается прямо противоположной точки зрения.
Российское руководство не может не понимать этого, и именно такая, резко негативная, оценка однополярного мира и американской гегемонии не раз высказывалась Президентом России Владимиром Путиным (в частности, в так называемой «мюнхенской речи»333). Но при этом существующая асимметрия между США как мировой «гипердержавой» и Российской Федерацией как мощной, но только лишь региональной державой не позволяет оформить геополитическое противостояние между Морем и Сушей, глобализацией и многополярностью в открытую и прямую конфронтацию. Намного превосходящий современную Россию по своим стратегическим возможностям Советский Союз не выдержал двухполярного напряжения. Тем более не способна, даже теоретически, выдержать его (в одиночку) современная Россия. Поэтому Россия вынуждена постоянно поступать в соответствии с этой асимметрией, уклоняясь от прямой конфронтации, вуалируя свою позицию за дипломатическими двусмысленностями, методом проб и ошибок «прозванивая» структуру американского давления в поисках брешей и слабых мест, стараясь парировать точечные удары по территориям жизненно важных интересов России в ближнем зарубежье и Восточной Европе, а также подспудно пытаясь выстроить наброски многополярных альянсов.
Американские и российские интересы заведомо противоположны во всем, но это невыгодно и непросто признать (хотя и по разным причинам) ни той, ни другой стороне.
Россия стратегически заинтересована, чтобы американского присутствия или присутствия НАТО не было на постсоветском пространстве. США заинтересованы в прямо противоположном. Россия хочет иметь прямые партнерские отношения со своими западными соседями в Восточной Европе (странами бывшего соцлагеря). США видит в них зону своего преимущественного влияния (санитарный кордон, препятствующий сближению Москвы с Евросоюзом). Россия хочет построить интеграционную модель с Украиной и Беларусью. США поддерживают «оранжевую революцию» в Киеве, чьи вожди делают все возможное, чтобы оторвать Украину от России, и дискредитируют на мировом уровне Президента Беларуси А. Г. Лукашенко — в первую очередь за его самостоятельную политику и четкую ориентацию на союз с Россией. Россия укрепляет контакты с крупными державами континентальной Европы (Германией, Францией, Италией) в первую очередь в сфере энергетического сотрудничества. США через свое влияние на страны Восточной Европы и на определенные политические круги в Евросоюзе (евроатлантизм) всячески саботируют эти контакты, препятствуют энергетическим проектам, постоянно ставят под вопрос маршруты трубопроводов и даже пытаются закрепить правовым образом возможность военного вмешательства в случае спорных энергетических ситуаций с поставками, очевидно, имея в виду в первую очередь поставки из России.
В такой ситуации продолжения геополитической напряженности, периодически выходящей на поверхность, трудно строить конструктивную российско-американскую политику — в силу отсутствия у нее каких бы то ни было оснований. Эффективность российско-американских отношений с обеих сторон измеряется прямо противоположным образом. Успехи России в отношениях с США измеряются тем, насколько Москве удалось, в конечном итоге, укрепить Heartland. Успехи США трактуются в этой стране прямо противоположным образом — они зависят от того, насколько США удалось Heartland ослабить.
Heartland и Европа
Совершенно иная модель существует в отношении Евросоюза. В расширенной версии теории Heartland’а, сложившейся у Х. Макиндера к 1919 году, кроме России, к нему относится территория Германии и Средней Европы. В Европе существует основательная континентальная традиция, континентальная идентичность, которая имеет самые разнообразные культурные, социальные и политические выражения. Это отчетливо видно в политике таких стран, как Франция и Германия (в меньшей степени — в политике Италии и Испании). Развитие стратегического партнерства с этим ядром Европы для России имеет приоритетное значение, так как именно на его основе может складываться многополярность. В момент одностороннего и не одобренного Советом Безопасности ООН вторжения стран коалиции (США и Великобритания) в Ирак в 2001 году набросок российско-европейского континентального альянса дал о себе знать в форме оси «Париж–Берлин–Москва»334, когда три президента этих стран (Ж. Ширак, Г. Шрёдер и В. Путин) совместно осудили действия Вашингтона и Лондона, выразив тем самым консолидированные интересы Heartland’а в его расширительном толковании (Россия + континентальная Европа). Это вызвало почти панику в США, где очень хорошо осознали, чем может кончиться такой альянс в случае его углубления и продолжения335 для американской мировой гегемонии, и принялись всеми способами его демонтировать.
В Евросоюзе есть и другая составляющая, воплощенная в Англии, а также в странах «Новой Европы» (бывшие страны соцлагеря), чье политическое руководство, как правило, ориентировано жестко антироссийски и проамерикански. Стратегия этого сектора европейской политики несамостоятельна и полностью зависит от Вашингтона. В духе классической англосаксонской геополитики, США сегодня заинтересованы в создании из стран Восточной Европы «санитарного кордона», который находился бы под прямым стратегическим протекторатом англосаксов и разделял бы расширенную версию Heartland’а (Россия плюс Центральная Европа) клином на две части.
Именно таким видел Макиндер путь к мировому господству: «Кто контролирует Восточную Европу (выделено нами. — А. Д.), управляет «сердечной землей» (Heartland), кто управляет «сердечной землей» (Heartland), тот управляет «мировым островом»; кто управляет «мировым островом», тот правит миром»336. Ничего не меняется и сегодня. «Санитарный кордон» из антироссийских национальных государств Восточной Европы, слабо осознающих ответственность за собственно континентальную европейскую идентичность, построен и служит все той же цели. Эти страны интегрированы в НАТО, и на территории некоторых из них планируется разместить элементы американской системы ПРО, направленной, со всей очевидностью, против России.
Естественно, у России с этими евроатлантистскими странами отношения будут складываться не просто, так как их политические режимы ориентированы антироссийски, а кроме того, эти страны не самостоятельны и инструментально используются США.
Проект «Великая Восточная Европа»
При этом в отношении Восточной Европы Россия может выдвинуть и конструктивный проект, который можно условно назвать «Великая Восточная Европа» (GreaterEasternEurope). Теоретически он должен строиться на исторических, культурных, этнических и религиозных особенностях восточноевропейских обществ. На всем протяжении истории Западной Европы ее славянские этносы и православные общества находились на периферии, были обделены вниманием и мало влияли на выработку общей западноевропейской социальной, культурной и политической парадигмы. Католики считали «православных» «восточными схизматами» («раскольниками» и «еретиками»), а к славянам часто относились как к людям «второго сорта». Все это — следствие типичного европоцентризма и оценки уровня культуры общества по степени его сходства с обществом Западной Европы.
Славяне же и православные культуры существенно отличались и отличаются от романо-германских и католико-протестантских обществ. Если эти отличия Западная Европа исторически толковала в пользу превосходства романо-германской культуры над славянской, а католичества над православием, то в рамках многополярного подхода все выглядит иначе и утверждается самобытность восточноевропейских стран и народов как самостоятельных и самоценных социологических и культурных явлений.
Проект «Великая Восточная Европа» может включать как славянский круг (поляков, болгар, словаков, чехов, сербов, хорватов, словенцев, македонцев, боснийцев и сербов мусульман, а также малые этносы, такие как лужицкие сербы), так и православный (болгар, сербов, македонцев, но вместе с тем румын и греков). Единственный восточноевропейский народ, который не попадает под определение «славянский» или «православный», — это венгры. Но, с другой стороны, в этом случае налицо их евразийское, степное происхождение, общее с другими финно-угорскими народами, подавляющее большинство которых живут на территории Heartland’а и имеют ярко выраженный евразийский культурный характер.
Великая Восточная Европа могла бы стать самостоятельным «большим пространством» в рамках единой Европы. Но в этом случае эти страны и общества перестали бы исполнять функцию «санитарного кордона», служить пешками в атлантистской геополитической игре и обрели бы достойное место в общем ансамбле многополярного мира.
С точки зрения Heartland’а, это был бы оптимальный вариант.
Heartland и западные страны СНГ
Рассмотрим отношения Heartland’а cо странами СНГ, находящимися к Западу от территории Российской Федерации. Земли нынешних Украины и Беларуси изначально были неотъемлемой, причем ядерной, частью центральной Киевской Руси, и именно с этих территорий берет начало как российская государственность, так и историческое освоение восточными славянами всего пространства Heartland’а. После освобождения от монголов Московские великие князья, а затем цари считали восстановление стратегической целостности бывших земель Киевской Руси под единым началом православной славянской государственности основным вектором внешней политики. Бесчисленные войны с Литвой, Ливонским орденом, а позже (в эпоху Санкт-Петербургского периода) с Османской империей были продиктованы именно этой задачей — восстановлением единого политического пространства. Объединение великороссов, малороссов и белорусов виделось русским политическим и общественным деятелям как исполнение Москвой исторического предначертания.
Украина и Беларусь в целом принадлежат именно к зоне Heartland’а, и, следовательно, интеграция трех восточнославянских обществ и государств в единую сплоченную стратегическую структуру является важнейшей исторической задачей. Со стратегической точки зрения, эта интеграция совершенно необходима для того, чтобы Heartland стал самостоятельной геостратегической силой в региональном, а затем и мировом масштабе. Это отчетливо осознавали геополитики атлантисты — от Х. Макиндера до З. Бжезинского. Макиндер активно работал над созданием «независимой Украины» в годы Гражданской войны, а З. Бжезинский — уже в наше время, в конце 1980 — начале 1990-х годов. При этом Бжезинский совершенно справедливо отмечает, что возможность геополитического возрождения России как самостоятельного игрока большой геополитики напрямую зависит от ее отношений с Украиной. Без Украины Россия недостаточна ни в пространственно-стратегическом, ни в демографическом, ни в политическом смыслах. Именно поэтому Запад (и США конкретно) активно спонсировал «оранжевую революцию» на Украине в целях установления там такого режима, который, вопреки всем насущным интересам украинцев, разорвал бы связи с Россией и ускоренными темпами интегрировался в военно-стратегический блок НАТО. После не слишком удачного периода правления Виктора Януковича в феврале 2014 года прозападным силам удалось осуществить в Киеве государственный переворот, в ходе которого власть захватили крайние либералы в альянсе с ультранационалистами. Понимая, насколько важен для всей евразийской геополитики союз России с Украиной, атлантистские стратеги сделали опережающий ход, чтобы окончательно оторвать Украину от России, в том числе лишив Россию военно-морской базы в Севастополе, отменив русский язык как второй государственный и т. д. В ответ на это в Крыму состоялся Референдум о воссоединении с Россией, и эта часть бывшей Украины территориально примкнула к России. Параллельно этому начались восстания на всей территории Новороссии от Одессы до Харькова, а в Донецке и Луганске пророссийские силы провозгласили независимые политические образования Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику, объединившиеся в Новороссию. Это привело к кровавому конфликту и многочисленным человеческим жертвам, так как реакция атлантистов в Киеве была несоразмерно жестокой. Ополчение Новороссии встало на защиту своих территорий, поддержанное многочисленными добровольцами из России.
В результате переворота в Киеве в 2014 году и последующих драматических событий проект мирного и постепенного сближения Украины с Heartland’ом был сорван. Западные области и Киев сделали ставку на ускоренную интеграцию в ЕС и НАТО, на что восточные области ответили резким виражом в сторону России. Это привело к распаду Украины в границах 1991 года, отделению Крыма и народному автономистскому и пророссийскому движению на всей территории Новороссии — начиная с Луганска и Донецка, где были созданы самостоятельные властные и административные структуры. Таким образом, ситуация необратимо изменилась, и перспектива интеграции всей Украины в евразийскую зону стала нереалистичной даже в среднесрочной перспективе, не говоря о долгосрочной. Поэтому стратегия Heartland’а с учетом сложившихся условий может отныне заключаться лишь в тесной интеграции с Новороссией и в попытках установить с центральными и западными районами бывшей Украины как минимум нейтральные отношения.
В результате трагических событий 2014 года атлантистам удалось восстановить значительную часть украинцев против России и привести к власти в Киеве антироссийскую политическую элиту. Но Heartland получил территориальное приращение в Крыму, имеющему огромное стратегическое значение, и распространил свое влияние на регионы Новороссии. Все это создало новые условия для дальнейшей стратегии Heartland’а, существенно осложнив отношения России с Европой.
В отношениях с фрагментированным отныне пространством Украины и в вопросах интеграции с Беларусью Россия должна действовать крайне деликатно, чтобы в этом процессе не повторялись ошибки как царистского империализма, так и советского периода, когда процессы интеграции проходили с определенными — идеологическими и политическими — издержками. В этом отношении огромную роль может сыграть философия многополярности, которая позитивно оценивает все различия — в культуре, этничности, социальности, истории. Если эта философия будет освоена российскими политическими элитами, диалог с украинцами и белорусами будет развиваться по совершенно иному сценарию, нежели сегодня. В перспективе это может стать основой для нормализации отношений и с Западной Украиной (Галичина, Волынь и т. д.), культура которой существенно отличается от великоросской, но которая может найти свое место в развитии дружеских отношений России с Европой, выступая не в роли «санитарного кордона», как этого хотелось бы атлантистским стратегам, а в роли моста между Евразией и Европой.
Многополярная интеграция не есть поглощение, слияние и тем более «русификация». Россия выступает в ней не как национальное Государство со своими эгоистическими интересами и амбициями, но как ядро нового, плюралистического и полицентрического образования, где централизация будет затрагивать только самые принципиальные вопросы (война, мир, партнерство с внешними блоками, транспортная система, макроэнергетика и т. д.), а все остальные темы будут рассматриваться на национальных уровнях. Совершенно очевидно, что многополярность категорически исключает возможность вступления союзников России в блок НАТО.
Особой зоной является Молдова, территория которой также частично входила в Киевскую Русь и была освоена славянскими племенами уличей и тиверцев наряду с другими народами — в первую очередь потомками древних фракийцев, молдаванами. Этнически молдаване родственны румынам, а конфессионально являются православными. Они представляют собой, с геополитической точки зрения, типичное лимитрофное общество, в котором явственно различимы как чисто евразийские черты, так и определенные признаки восточноевропейской культуры. Существование гипотетической Великой Восточной Европы сняло бы проблему Молдавии совсем и сделало бы ее интеграцию с Румынией чисто техническим вопросом. Но пока Румыния является членом НАТО и входит в «санитарный кордон», построенный атлантистскими стратегами против Heartland’а, такая интеграция будет невозможной, поскольку нарушает стратегические интересы России и идет против основного вектора развития многополярности.
Основные задачи Heartland’а
в западном направленииПеречисленные нами направления западного сегмента в строительстве многополярного мира не предполагают последовательности, но должны развертываться параллельно, так как они относятся к разным уровням, а сами эти уровни между собой взаимосвязаны. Так, на отношения России с США непосредственно влияют отношения России с Западной Европой, Восточной Европой и странами СНГ и наоборот. Это единая геополитическая система, которая затрагивает одновременно все составляющие и предопределяет общую структуру внешней политики.
Обобщить западный вектор Heartland’а в строительстве многополярного мира России можно следующим образом:
• переиграть США в европейском пространстве, не вступая с ними в прямую конфронтацию;
• способствовать кристаллизации континентальной идентичности Евросоюза;
• продвинуть проект Великой Восточной Европы;
• воспрепятствовать дальнейшему продвижению НАТО на Восток и созданию «санитарного кордона» между Россией и Европой;
• интегрировать в единое стратегическое пространство Россию, Беларусь и новороссийские территории бывшей Украины;
• нейтрализовать интеграцию Молдовы с Румынией (пока та является членом НАТО) и центральных и западных областей бывшей Украины с ЕС и НАТО.
Южная стратегия Heartland’а: Евразийский Ближний Восток и роль Турции
В южном направлении российской стратегии также можно наметить некоторые безусловные ориентиры, направленные на конструирование многополярности.
Как и в предыдущем случае, ключевым здесь будет вопрос эффективного противостояния стратегии США в этом регионе. Американская стратегия объявила зоной своих национальных интересов пространство всего мира, и поэтому у США есть набор стратегий перераспределения регионального баланса сил в свою пользу для каждой точки политического пространства земли.
Оставим в стороне положение в Североафриканском регионе как не затрагивающее напрямую стратегические интересы Heartland’а. На современном этапе всерьез Россию начинают затрагивать процессы, развертывающиеся на Ближнем Востоке и далее вплоть до Тихоокеанского региона. Мы разделим темы геополитики Юга и Востока по условной линии Пакистана: от Египта и Сирии до Пакистана — условно «Юг», от Индии до Тихоокеанского ареала (Япония) — «Восток».
Для Ближнего Востока у США имеется свой «Великий проект», Greater Middle East Project337. Он предусматривает «демократизацию» и «модернизацию» ближневосточных обществ и изменение структуры национальных государств в регионе (вероятный распад Ирака, появление нового государства Курдистан, возможное расчленение Турции и т. д.). В целом общий смысл проекта — усилить военное присутствие США и НАТО в регионе, ослабить позиции исламских режимов и стран с сильно развитым арабским национализмом (Сирия) и способствовать углубленному внедрению глобалистских паттернов в традиционную религиозную структуру обществ данного региона.
Heartland заинтересован в прямо противоположном сценарии, а именно:
• в сохранении традиционных обществ и их естественном развитии;
• в поддержке арабских стран в их стремлении к построению обществ на основании уникальной этнической и религиозной культуры;
• в сокращении количества или полном отсутствии американских военных баз на всем Ближнем Востоке;
• в развитии двухсторонних связей со всеми региональными державами этой зоны — в первую очередь с Турцией, Египтом, Саудовской Аравией, Израилем, Сирией и т. д.
Оптимальным для России был бы выход Турции из состава НАТО, что позволило бы резко интенсифицировать стратегическое партнерство с этой евразийской по своей идентичности страной, пропорции между традиционным обществом и современностью в которой весьма напоминают российское общество. О возможности выхода Турции из НАТО в последние годы все громче говорят видные и влиятельные турецкие политики — например, генерал Тунджер Кылынч338, бывший глава Совета национальной безопасности Турецкой Республики, и многие другие. Турция за последнее десятилетие резко изменила манеру геополитического поведения, из надежного оплота атлантизма превращаясь в самостоятельную региональную державу, способную проводить независимую политику даже тогда, когда она расходится с интересами США и НАТО и противоречит им. Поэтому сегодня вполне может идти речь о создании оси «Москва–Анкара», о которой пятнадцать–двадцать лет назад и речи быть не могло339.
Ось Москва–Тегеран
Далее к Востоку располагается самый главный элемент многополярной модели евразийского сектора — континентальный Иран, страна с многотысячелетней историей, уникальной духовной культурой, ключевым географическим месторасположением.
Ось «Москва–Тегеран» является главной линией в выстраивании того, что еще К. Хаусхофер называл евразийской «пан-идеей». Иран является тем стратегическим пространством, которое автоматически решает задачу превращения Heartland’а в глобальную мировую силу. Если интеграция с Украиной является необходимым условием для этого, то стратегическое партнерство с Ираном — достаточным.
Совершенно очевидно, что в настоящее время Россия не имеет ни желания, ни возможности самостоятельно аннексировать эти территории, чего никогда не удавалось ей исторически и в более выигрышных условиях (все русско-персидские войны давали России лишь частичный перевес и способствовали реорганизации в ее пользу территорий Южного Кавказа и Дагестана). Кроме того, российское и иранское общества различны и представляют собой далеко отстоящие друг от друга культуры. Поэтому ось «Москва–Тегеран» должна представлять собой основанное на рациональном стратегическом расчете и геополитическом прагматизме партнерство во имя реализации многополярной модели мироустройства — единственной, которая устраивала бы и современный Иран, и современную Россию.
Иран как любая «береговая зона» евразийского материка теоретически обладает двойной идентичностью: он может сделать выбор в пользу атлантизма, а может — в пользу евразийства. Уникальность нашей ситуации заключается в том, что в настоящее время политическое руководство Ирана, в первую очередь националистически и эсхатологически настроенное шиитское духовенство, стоит на крайних антиатлантистских позициях, категорически отрицает американскую гегемонию и жестко выступает против глобализации. Действуя в этом ключе более радикально и последовательно, нежели Россия, Иран закономерно стал «врагом США номер 1». В этой ситуации у Ирана нет никакой возможности далее настаивать на такой позиции без опоры на солидную военно-техническую силу: своего потенциала Ирану в случае конфронтации с США явно не хватит. Поэтому Россию и Иран объединяет в общее стратегическое пространство сам исторический момент. Ось «Москва–Тегеран» решает для двух стран все принципиальные проблемы: дает России выход к теплым морям, а Ирану — гаранта ядерной безопасности.
Сухопутная сущность России как Heartland’а и сухопутный (евразийский, коль скоро он антиатлантистский) выбор современного Ирана ставят обе державы в одно и то же положение по отношению к стратегии США во всем Центрально-Азиатском регионе. И Россия и Иран жизненно заинтересованы в отсутствии американцев поблизости от своих границ и в срыве перераспределения баланса сил в этой зоне в пользу американских интересов.
США уже разработали план «Великой Центральной Азии»340, смысл которого сводится к дроблению этой зоны, превращению ее в «Евразийские Балканы» (З. Бжезинский341) и вытеснению отсюда иранского и российского влияния. Этот план представляет собой создание «санитарного кордона» — на сей раз на южных границах России, который призван отделить Россию от Ирана, как западный «санитарный кордон» предназначен для отделения России от континентальной (и континенталистской) Европы. В этот «санитарный кордон» должны входить страны «Великого шелкового пути» — Армения, Грузия, Азербайджан, Афганистан, Узбекистан, Киргизия и Казахстан, — которые планируется поставить под американское влияние. Первым аккордом этого сценария является размещение военных баз в Средней Азии и развертывание американского военного присутствия в Афганистане (под предлогом борьбы с талибами и погони за Бин Ладеном). Задача России и Ирана — сорвать это проект и реорганизовать политическое пространство Центральной Азии таким образом, чтобы удалить оттуда американское военное присутствие, прорвать азиатский «санитарный кордон» и совместно выстроить геополитическую архитектуру Прикаспийского региона и Афганистана. У России и Ирана здесь полностью совпадают стратегические интересы: то, что выгодно России, выгодно Ирану, и наоборот.
Вред национального эгоизма в российско-иранских отношениях и инструментальные мифы глобалистов
Но эта ситуация становится прозрачной только в том случае, если мы посмотрим на этот регион геополитически и с учетом императива построения конкретной многополярности. Если же рассматривать Российскую Федерацию и Исламскую Республику Иран как два национальных государства с эгоистическими и меркантильными целями, то картина станет менее очевидной. В этом случае создастся поле для разнообразного обыгрывания различий между иранским и российским обществами в целях политических манипуляций. Так, для российского общественного мнения глобалистскими центрами заготовлен инструментальный миф об «агрессивном исламском фундаментализме» иранской политической системы и о том, что со стороны иранских религиозных «фанатиков» Россия может получить в какой-то момент «прямой удар», в том числе и «военный». Этот тезис несостоятелен по нескольким причинам: реальные стратегические интересы Ирана, если и выходят за национальные границы, то только в западном направлении. Иран самым серьезным образом относится к шиитскому сегменту общества в Ираке (а это большинство), к Сирии, ливанской Хезболле и к палестинскому сопротивлению (особенно к его шиитской фракции «Джижад-уль ислами»). Российские мусульмане, практически все шииты (кроме представителей не особенно религиозной азербайджанской диаспоры), Иран совершенно не интересуют и никакой идеологической пропаганды Иран в России и в исламских странах СНГ не ведет. При этом иранское руководство прекрасно осознает, что только Россия способна по-настоящему предупредить жесткие формы американского вторжения. И наконец, никаких территориальных споров — даже отложенных — у Ирана и России на сегодняшний момент нет.
Аналогичные мифы относительно России (с цитированием эпизодов из истории царистского империализма и советской идеологической пропаганды) запускаются в иранское общество с теми же целями — воспрепятствовать, насколько это возможно, созданию главной несущей конструкции всей потенциальной квадриполярной структуры. Странно было бы ожидать от глобалистов и атлантистских геополитиков, что они будут спокойно наблюдать за тем, как на их глазах создается смертельно опасное для их мировой гегемонии российско-иранское стратегическое партнерство.
Афганская проблема и роль Пакистана
Если Прикаспийский регион — это вопрос в первую очередь российско-иранских отношений, то для переформатирования Афганистана необходимо привлечение Пакистана. Эта страна традиционно была ориентирована в русле атлантистской стратегии в регионе и, более того, вообще была искусственно создана англичанами при их уходе из Вест-Индии, чтобы создавать региональным центрам силы дополнительные проблемы. Но в последние годы пакистанское общество существенно изменилось, и прежняя прямолинейная проанглосаксонская ориентация все чаще ставится под сомнение — особенно с учетом несоответствия глобалистских стандартов современного и постмодернистского глобального общества традиционному и архаическому обществу Пакистана. У Ирана с Афганистаном традиционно выстроились натянутые отношения, что проявилось в том, что во внутриафганском конфликте Иран и Пакистан неизменно поддерживали враждующие между собой стороны: Иран — шиитов, таджиков, узбеков и силы Северного Альянса, а Пакистан — пуштунов и их радикальную верхушку, талибов.
У России в этих условиях появляется шанс сыграть важную роль в структурировании нового Афганистана через новый виток развития российско-пакистанских отношений. И снова многополярный горизонт, принятый во внимание, сам диктует нам, в каком направлении и на какой основе развивать отношения Москвы с Исламабадом. Следует двигаться в направлении освобождения всей территории Центральной Азии от американского присутствия и, пользуясь конфликтами талибов с силами НАТО, постоянно подчеркивать «особую позицию России» по афганскому вопросу, а не поддерживать безоговорочно «агрессора», который якобы сдерживает талибов, которые в противном случае могли бы представлять угрозу стратегическим интересам России. Это, кстати, тоже очередной запущенный атлантистами и глобалистами миф. США никогда ничего не делает просто так, да еще в пользу России. Если они вступили в конфликт с талибами, то для этого есть серьезные стратегические, военные и экономические основания. И самой явной причиной является необходимость легитимации американского военного присутствия в регионе. Контролируемый вооруженными силами США и НАТО Афганистан как раз и является основой азиатского «санитарного кордона», направленного против России и Ирана. В этом и состоит единственный геополитический смысл афганской войны.
Так как Пакистан может существенно влиять на талибов, России следует начать исподволь готовить новую модель отношений с пуштунским большинством Афганистана, чтобы — после неизбежного и желательного — ухода американских войск из этой страны России не пришлось бы расплачиваться за преступления, которые она не совершала.
Среднеазиатский геополитический ромб
Все пространство Средней (или Центральной) Азии геополитически представляет собой ромб, на двух — северной и южной — вершинах которого можно расположить Москву и Тегеран (Россию и Иран).
Между ними располагаются (с Запада на Восток) Южный Кавказ (Армения, Грузия, Азербайджан), Туркмения, Афганистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия.
В этой зоне располагаются несколько консолидированных политически и экономически государств с региональными амбициями (Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркмения) и несколько более хрупких и зависимых образований (Грузия, Таджикистан, Киргизия). Оккупированный США и войсками НАТО Афганистан представляет собой совершенно отдельное явление.
В перспективе многополярного мира у России и Ирана рамочные условия (удовлетворяющие их стратегическим интересам) той стратегической модели, которую следует выстроить из этих стран, полностью совпадают. Допустимо все, кроме реализации проекта «Великой Центральной Азии» или «Великого шелкового пути».
Например, и Россию и Иран категорически не устраивает проамериканская ориентация современной Грузии и расположение на ее территории американских военных баз. В этом смысле Грузия противопоставляет себя всей региональной модели и выступает форпостом атлантизма, глобализации и однополярного мира. А в спорных вопросах, где нет очевидных геополитических интересов США (например, в Карабахском вопросе), картина более сложная, и ни у Ирана, ни у России нет однозначных фаворитов. Иран по внутриполитическим соображениям, сохраняя нейтралитет, больше помогал Армении, равно, как и Россия. Но и у Ирана, и у России, тем не менее, сохранились ровные отношения с Азербайджаном. Эта конструкция несколько меняется в последние годы в силу трансформации турецкой политики, которая все больше выходит из-под контроля США. Следовательно, турецкое влияние в Азербайджане перестает носить однозначно атлантистский характер. Вместе с тем часть армянских элит все теснее взаимодействует с США и глобалистскими инстанциями, что также не проходит бесследно для российско-армянских и иранско-армянских отношений. Но все эти изменения не превышают пока уровня флуктуаций, не меняющих принципиальной расстановки сил. Такая ситуация сохранится вплоть до решительных сдвигов в Карабахском вопросе — в какую бы то ни было сторону.
В отношении Казахстана, Таджикистана и Киргизии России необходимо интенсифицировать интеграционные процессы в сфере создания Таможенного союза. Желательно при этом вернуть в интеграционное поле Узбекистан, который вначале вступил в ЕврАзЭС, а затем его покинул; предотвратить развал Киргизии, потрясаемой внутренними противоречиями (не без участия внешних сил); наладить рабочие контакты с новым руководством Туркменистана.
Основные задачи Heartland’а на южном направлении
Южный вектор создания Heartland’ом предпосылок для возникновения многополярного мира обобщенно состоит из следующих задач:
• переиграть США в центрально-азиатском пространстве, не вступая с ними в прямую конфронтацию;
• помешать США в реализации проекта «Великий Ближний Восток»;
• создать мощную стратегическую конструкцию по оси «Москва–Тегеран» вплоть до военно-политической интеграции и размещения взаимных военных объектов на территории обеих стран;
• стараться максимально сближаться с Турцией в ее новом геополитическом курсе на независимость от американского и глобалистского влияния;
• сорвать проект «Великой Центральной Азии» и реорганизовать Прикаспийский регион на «сухопутных» (евразийских, многополярных) основаниях, рассматривая Каспий как «внутреннее озеро» континентальных держав;
• воспрепятствовать созданию азиатского «санитарного кордона» между Россией и Ираном;
• интегрировать в единое экономическое и таможенное пространство Россию, Казахстан, Таджикистан;
• разработать новый формат отношений с Пакистаном с учетом трансформации его политики;
• предложить новую архитектуру Афганистана и способствовать его освобождению от американской и натовской оккупации.
Восточная стратегия Heartland’а:
Ось Москва–Нью-ДелиДвинемся восточнее. Здесь мы видим Индию как самостоятельное «большое пространство», которое в эпоху «Большой Игры» (Great Game) было главным плацдармом обеспечения британского господства в Азии. В тот период для «цивилизации Моря» было принципиальным сохранение контроля над Индией и предотвращение самой возможности того, что какие-то еще державы — в первую очередь, Российская Империя — могут посягнуть на безраздельный контроль англичан в этом регионе. С этим были связаны и афганские эпопеи англичан, которые неоднократно пытались установить свой контроль над сложной структурой неуправляемого афганского общества именно для того, чтобы блокировать русских от возможного похода в Индию342. Такая перспектива теоретически прорабатывалась уже с эпохи императора Павла I, который практически начал (несколько наивно организованный и спланированный) поход казаков на Индию (в союзе с французами), что, возможно, и стало поводом к его убийству (за организацией которого, как показывают историки, стоял английский посол в России Лорд Уитворт343).
В настоящее время Индия проводит политику стратегического нейтралитета, но ее общество, культура, религия и ценностная система не имеют ничего общего с глобалистским проектом или с западноевропейским образом жизни. По своей структуре индусское общество — совершенно сухопутное, основанное на константах, довольно незначительно изменяющихся в течение тысячелетий. Индия по своим параметрам (демография, уровень современного экономического развития, интегрирующая культура) представляет законченное «большое пространство», которое органично включается в многополярную структуру. Российско-индийские отношения после освобождения Индии от англичан традиционно были очень теплыми. Вместе с тем, индийские правители постоянно подчеркивают приверженность многополярной модели мироустройства. При этом само индийское общество демонстрирует пример многополярности, при которой многообразие этносов, культов, локальных культур, религиозных и философских течений прекрасно уживается друг с другом при всем их глубинном различии и даже противоречиях. Индия это, безусловно, цивилизация, которая в ХХ веке после окончания этапа колонизации приобрела — по прагматическим соображениям — статус «национального государства».
При этих благоприятных для многополярного проекта обстоятельствах, которые делают ось «Москва–Нью-Дели» еще одной несущей конструкцией пространственного выражения евразийской пан-идеи, существует ряд обстоятельств, затрудняющих этот процесс. Индия в силу исторической инерции продолжает сохранять тесные связи с англосаксонским миром, который за период колониального господства сумел существенно повлиять на индийское общество, спроецировать на него свои формальные социологические установки и паттерны (в частности, англоязычие). Индия тесно интегрирована с США и странами НАТО в военно-технической области, и атлантистские стратеги чрезвычайно дорожат этим сотрудничеством, так как оно вписывается в стратегию контроля «береговой зоны» Евразии. При этом сама ментальность индийского общества отвергает логику жестких альтернатив или/или и для индусского сознания трудно осознать необходимость необратимого выбора между Морем и Сушей, между глобализацией и сохранением цивилизационной идентичности.
Но на региональном уровне, в отношениях со своими непосредственными соседями — и в первую очередь с Китаем и Пакистаном, индийское геополитическое мышление работает куда более адекватно, и этим следует пользоваться для встраивания Индии в многополярную конструкцию новой евразийской стратегической архитектуры.
Естественное место Индии — в евразийском пространстве, в котором она могла бы играть стратегическую роль, сопоставимую с Ираном. Но формат построения оси «Москва–Нью-Дели» должен быть совершенно иным, учитывающим специфику индийской региональной стратегии и культуры. В случае Ирана и Индии должны быть задействованы различные парадигмы стратегической интеграции.
Геополитическая структура Китая
Важнейший вопрос представляет собой тема Китая. В сегодняшнем мире Китай настолько успешно развивает свою экономику, находя оптимальные пропорции между сохранением политической власти реформированной коммунистической партии, принципами либеральной экономики и мобилизационным использованием общности китайской культуры (в некоторых случаях в форме «китайского национализма»), что многие отводят ему роль самостоятельного мирового полюса в глобальном масштабе и предрекают будущее «нового гегемона». По экономическому потенциалу Китай занял второе место в числе пяти государств мира с самым крупным ВВП. Наряду с США, Германией и Японией страна образовала своеобразный клуб ведущих мировых торговых держав. Сами китайцы называют Китай — «Чжунго», то есть дословно «центральная, срединная страна».
Китай является сложной геополитической единицей, в которой можно выделить следующие главные составляющие:
• континентальный Китай — бедные и слабо орошаемые в течение года сельские районы в междуречье Хуанхэ и Янцзы, населенные преимущественно коренными этносами, объединенными понятием «хань»;
• береговые зоны на Востоке, представляющие собой центры экономического и торгового развития страны и пункты доступа к глобальному рынку;
• буферные зоны, населенные этническими меньшинствами (Автономный район Внутренняя Монголия, Синцзянь-Уйгурский автономный округ, Тибетский автономный район);
• соседние государства и специальные административные районы острова с исконно китайским населением (Тайвань, Гонконг, Макао).
Проблема китайской геополитики заключается в следующем: чтобы развивать экономику, Китаю не хватает внутреннего спроса (бедность континентального Китая). Выход на международный рынок через развитие береговой зоны Тихого океана резко повышает уровень жизни, но создает социальные диспропорции между «берегом» и «континентом», а также способствует усилению внешнего управления через экономические связи и инвестиции, что угрожает безопасности страны. В начале ХХ века эта диспропорция привела к краху китайской государственности, раздробленности страны, фактически к установлению «внешнего управления» со стороны Великобритании и, наконец, к оккупации береговых зон Японией. Мао Цзэдун (1893–1976) выбрал иной путь — централизации страны и ее полной закрытости. Это сделало Китай независимым, но обрекло на бедность. В конце 1980-х годов Дэн Сяопин (1904–1997) начал очередной виток реформ, смысл которых заключается в балансе между открытым развитием «береговой зоны» и привлечением туда иностранных инвестиций и сохранением жесткого политического контроля над всей территорией Китая в руках Коммунистической партии в целях сохранения единства страны. Эта формула и определяет геополитическую функцию современного Китая.
Идентичность Китая двойственна: есть континентальный Китай и есть Китай береговой. Континентальный Китай ориентирован на самого себя и сохранение социальной и культурной парадигмы; береговой Китай все более интегрируется в «глобальный рынок» и, соответственно, в «глобальное общество» (то есть постепенно принимает черты «цивилизации Моря»). Эти геополитические противоречия сглаживаются Коммунистической партией Китая (КПК), которой приходится действовать в парадигме Дэн Сяопина — открытость обеспечивает экономический рост, жесткий идеологический и партийный централизм, с опорой на бедные континентальные сельские области, поддерживает относительную изоляцию Китая от внешнего мира. Китай стремится взять от атлантизма и глобализации то, что его усиливает, и отслоить и отбросить то, что его ослабляет и разрушает. Пока Пекину удается поддерживать этот баланс, и это выводит его в мировые лидеры. Но трудно сказать, до какой степени можно совмещать несовместимое: глобализацию одного сегмента общества и сохранение другого сегмента в условиях традиционного уклада. Решение этого чрезвычайно сложного уравнения и предопределит судьбу Китая в будущем и, соответственно, выстроит алгоритм его поведения.
В любом случае сегодня Китай жестко настаивает на многополярном миропорядке и в большинстве международных коллизий оппонирует однополярному подходу со стороны США и стран Запада. Только от США исходит единственная серьезная угроза безопасности нынешнего Китая — американский военный флот в Тихом океане в любой момент может установить блокаду вдоль всего китайского побережья и тем самым мгновенно обрушить китайскую экономику, полностью зависящую от внешних рынков. С этим связана напряженность вокруг Тайваня, мощного, бурно развивающегося государства с китайским населением, но представляющего собой чисто атлантистское общество, интегрированное в мировой либеральный контекст.
В модели многополярного мироустройства Китаю отводится роль полюса Тихоокеанского региона. Такая роль будет, своего рода, компромиссом между глобальным рынком, в условиях которого сегодня существует и развивается Китай, поставляющий туда огромную долю промышленных товаров, и полной закрытостью. Это в целом соответствует китайской стратегии, стремящейся максимально усилить экономический и технологический потенциал государства, прежде чем придет момент неизбежного столкновения с США.
Роль Китая в модели многополярного мира
В отношениях между Россией и Китаем есть ряд вопросов, которые могут помешать консолидации усилий по строительству многополярной конструкции. Это демографическое распространение китайцев на территорию слабозаселенных территорий Сибири, что грозит радикальным изменением самой социальной структуры российского общества и несет в себе прямую угрозу безопасности. В этом вопросе необходимым условием сбалансированного партнерства должен быть жесткий контроль китайских властей над миграционными потоками в северном направлении.
Второй вопрос — это влияние Китая в Центральной Азии, близком к России стратегическом районе, богатом природными ресурсами, огромными территориями, но довольно слабо заселенном. Движение Китая в Центральную Азию может стать также камнем преткновения. Обе эти тенденции нарушают важный принцип многополярности: организацию пространства по оси «Север–Юг», и никак не наоборот. Направление, в котором Китай имеет все основания развиваться, — это Тихоокеанский регион, расположенный к югу от Китая. Чем весомей будет китайское стратегическое присутствие в этой зоне, тем крепче будет многополярная конструкция.
Усиление присутствия Китая в Тихом океане напрямую сталкивается со стратегическими планами американской мировой гегемонии, так как с позиции атлантистской стратегии обеспечение контроля над Мировым океаном является ключом ко всей стратегической картине мира, какой его видят США. Военно-морской флот США в Тихом океане и размещение в разных его частях, а также в Индийском океане на острове Сан-Диего стратегических военных баз, позволяющих контролировать морское пространство всего региона, станут главной проблемой для реорганизации тихоокеанского пространства по модели многополярного мироустройства. Освобождение этого ареала от военных баз США можно считать задачей общепланетарного значения.
Геополитика Японии и ее возможное участие
в многополярном проектеКитай не является единственным полюсом в этой части земли. Асимметричной, но сопоставимой по экономическим показателям региональной державой является Япония. Будучи сухопутным и традиционным обществом, Япония после 1945 года по итогам Второй мировой войны оказалась под американской оккупацией, стратегические последствия которой сохраняют свое значение вплоть до сегодняшнего дня. Япония не самостоятельна в своей внешней политике, на ее территории расположены американские военные базы, а ее военно-политическое значение ничтожно по сравнению с ее экономическим потенциалом. Для Японии с теоретической точки зрения единственным органическим путем развития было бы включение в многополярный проект, что предполагает:
• установление партнерских отношений с Россией (с которой до сих пор не заключен мирный договор — такую ситуацию искусственно поддерживают США, опасаясь сближения России и Японии);
• восстановление ее военно-технической мощи как суверенной державы;
• активное участие в реорганизации стратегического пространства в Тихом океане;
• становление вторым, наряду с Китаем, полюсом всего тихоокеанского пространства.
Для России Япония была оптимальным партнером на Дальнем Востоке, так как демографически, в отличие от Китая, она не представляет никакой проблемы; жизненно нуждается в природных ресурсах (что позволило бы России с опорой на Японию в ускоренном ритме технологически и социально оснастить Сибирь) и обладает колоссальной экономической мощью, в том числе и в сфере высоких технологий, что стратегически важно российской экономике. Но для того чтобы такое партнерство стало возможным, Японии необходимо сделать решительный шаг по освобождению от американского влияния.
В противном случае (как это имеет место в нынешней ситуации) США будут рассматривать Японию как простой инструмент своей политики, призванный сдерживать Китай и потенциальное движение России в Тихий океан. Об этом совершенно справедливо рассуждает З. Бжезинский в книге «Великая шахматная доска»344, где описывает оптимальную стратегию США в Тихоокеанском регионе. Так, он поддерживает торговое и экономическое сближение с Китаем (поскольку через него Китай втягивается в «глобальное общество»), но настаивает на выстраивании против него военно-стратегического блока. С Японией З. Бжезинский, напротив, предлагает наращивать военно-стратегическое «партнерство» против Китая и России (на самом деле, речь не о «партнерстве», но о более активном использовании японской территории для развертывания военно-стратегических объектов США) и жестко конкурировать в экономической сфере, так как японский бизнес способен сделать экономическую доминацию США в мировом масштабе относительной.
Многополярный миропорядок закономерно оценивает ситуацию прямо противоположным образом: китайская либеральная экономика самоценностью не является и лишь усиливает зависимость Китая от Запада, а военная мощь — особенно в военно-морском сегменте, напротив, является, так как создает в перспективе предпосылки для освобождения Тихого и Индийского океанов от американского присутствия. Япония, напротив, интересна, прежде всего, как экономическое могущество, конкурирующее с экономиками Запада и освоившая правила глобального рынка (есть надежда, что в определенный момент Япония сможет этим воспользоваться в своих интересах), но менее привлекательна в качестве партнера многополярного мира как пассивный инструмент американской стратегии. Оптимальным во всех случаях был бы сценарий освобождения Японии от американского контроля и ее выход на самостоятельную геополитическую орбиту. В этом случае лучшего кандидата на строительство новой модели стратегического баланса в Тихом океане трудно себе представить.
В настоящее время с учетом существующего положения дел можно зарезервировать место «полюса» тихоокеанской зоны для двух держав — Китая и Японии. У обеих есть серьезные основания для роли лидера или одного из двух лидеров, существенно превосходящих все остальные страны Дальневосточного региона.
Северная Корея как пример геополитической автономии сухопутного государства
Следует особо выделить фактор Северной Кореи, страны, которая не уступает давлению Запада и продолжает сохранять верность своему весьма специфическому социально-политическому укладу (чучхэ) вопреки всем попыткам его опрокинуть, дискредитировать и демонизировать. Северная Корея является примером мужественного и эффективного сопротивления глобализации и однополярности со стороны довольно небольшого народа, и в этом ее огромная ценность. Ядерная Северная Корея, сохраняющая социальную и этническую самобытность, а также реальную независимость, при скромном уровне жизни и целом ряде ограничения «демократии» (понятой в либеральном, буржуазном смысле), наглядно контрастирует с Южной Кореей, стремительно утрачивающей культурную идентичность (к примеру, большинство жителей Южной Кореи принадлежат к протестантским сектам), не способной сделать ни шага во внешней политике без оглядки на США, но с более или менее благополучным (материально, но не психологически) населением. На примере двух частей исторически и этнически единого народа разыгрывается моральная драма выбора между независимостью и комфортом, достоинством и благополучием, гордостью и преуспеянием. Северокорейский полюс иллюстрирует собой ценности Суши. Южнокорейский — ценности Моря. Рим и Карфаген, Афины и Спарта. Бегемот и Левиафан в контексте современного Дальнего Востока.
Основные задачи Heartland’а на восточном направлении
Восточный (дальневосточный, азиатский) вектор Heartland’а можно свести к следующим главным задачам:
• обеспечить стратегическую безопасность России на тихоокеанском побережье и на Дальнем Востоке;
• интегрировать территории Сибири в общий социальный, экономический, технологический и стратегический контекст России (с учетом катастрофического положения дел в демографии российского населения);
• развивать партнерство с Индией, в том числе и в военно-технической области (ось «Москва–Нью-Дели»);
• выстроить сбалансированные отношения с Китаем, всячески поддерживая его многополярную политику, поощряя его стремление к статусу мощной военно-морской державы, но предупреждая негативные последствия от демографической экспансии китайского населения в северном направлении и проникновения китайского влияния в Казахстан;
• всячески способствовать ослаблению американского военно-морского присутствия в Тихоокеанском регионе, ликвидации военно-морских баз и иных стратегических объектов;
• поощрять освобождение Японии из-под американского влияния и становление самостоятельной региональной силой, что позволит наладить стратегическое партнерство по оси «Москва–Токио»;
• поддерживать региональные державы Дальнего Востока, отстаивающие свою независимость от атлантизма и глобализационных процессов (Северная Корея, Вьетнам и Лаос).
Геополитика Арктики. Значение Арктики
В отношении северного вектора перед Heartland’ом стоит проблема реорганизации арктической зоны. Пространство, прилегающее к Северному полюсу, Северный Ледовитый океан, существенно увеличивает свое значение по мере развития воздухоплавания и особенно ракетостроения, а также в силу подступающего дефицита природных ресурсов на мировом уровне. Через Арктику проходит кратчайшая траектория между Евразией и Америкой, а арктический шельф изобилует слабо разведанными пока природными ресурсами (по предварительным оценкам, там залегает до 25% всех неразведанных ресурсов нефти и газа в мире). В такой ситуации каждая пядь арктической земли или проведение морских границ приобретает особую геополитическую ценность.
Страны, выдвигающие сегодня претензии на контроль над арктическим пространством, — это США, Канада, Норвегия, Дания и Россия. США, Канада, Норвегия и Дания — члены НАТО, то есть представители атлантического блока. В данный момент набирает обороты процесс получения Гренландией самостоятельности (в данный момент это автономия в рамках Дании), но едва ли новая страна под управлением эскимосов-инуитов (которых на огромном пространстве Гренландии менее 60 000) сможет когда-то, в обозримом будущем, стать самостоятельной силой. Пока же на территории Гренландии (Канак) находятся американские военно-морские базы345. Поэтому с геополитической точки зрения баланс сил в Арктике определяется Россией (Heartland) и США (вместе с другими странами НАТО). Осознавая важность арктических ресурсов, многие другие страны, не имеющие прямого доступа к Арктике, развивают строительство ледокольного флота (как, например, Китай), что показывает огромное значение этой области для тех, кто мыслит о будущем стратегически.
Стратегическая безопасность России с севера
В последние годы Россия стала уделять Арктике повышенное внимание, плотно занимаясь правовыми вопросами, осуществляя символические арктические экспедиции и ускоренно переоснащая военно-технические объекты, расположенные в этой зоне346. Все это вполне можно считать конструктивными шагами по закреплению многополярной конструкции мира. Если территории Heartland’а будут неуязвимы для возможной воздушной атаки с территории Североамериканского континента, а также будут обладать обширной и легитимной долей арктических природных ресурсов, это качественно повысит вероятность установления многополярной модели. Поэтому все державы, так или иначе заинтересованные в многополярности, теоретически должны были бы поддержать арктические притязания России, которая в данном случае выступает не просто как одно из национальных государств, пекущееся о своих практических интересах (ресурсы, энергетика, экономика, безопасность), но как геополитическая сила, созидающая сбалансированный и гармоничный многополярный миропорядок.
Институционализация многополярности
Трансформация современной
структуры международного права.
Уровни системы международного праваРассмотрим теперь тонкий вопрос об институционализации многополярности. Многополярность, так же как однополярность и глобализация (мондиализм), представляет собой волевой концептуальный проект, который с необходимостью предшествует правовому оформлению и поэтому не может сам по себе иметь правовой характер. Этот проект является источником международного права, точнее, его трансформации от существующих форм к новым. Ни доктрина Монро, ни концепция Вудро Вильсона, ни теория «большого пространства» К. Хаусхофера и К. Шмитта не имели никакого правового статуса, но, будучи воплощенными (полностью или частично) в жизнь, они предопределили мировой баланс сил в международной политике, то есть на определенных этапах становились юридическими формами.
В системе международного права всегда есть несколько уровней:
• общие принципы, которые разделяет критическое количество участников международного процесса, способного эти принципы отстоять силой;
• интересы главных игроков мировой политики;
• существующее в данный момент силовое «статус-кво»;
• существующее в данный момент правовое «статус-кво»;
• закладываемые главными игроками перспективы на будущее.
Все эти пункты находятся в состоянии постоянной динамической трансформации и влияют друг на друга. Этим определяется общая структура международного права: в ней есть относительно постоянные моменты (там, где противоположные импульсы находятся в состоянии равновесия) и переменные моменты (там, где у каких-то игроков скапливается достаточно потенциала, чтобы изменить общие правила).
Переходное состояние современной системы международного права
В настоящий момент общая структура международного права представляет собой следующее:
• Вестфальская система, считающая суверенными признанные мировым сообществом (в лице ООН) национальные государства (то есть право национальных правительств проводить в своих границах политику, не зависимую от внешних сил) — «второй номос Земли», по К. Шмитту;
• инерциальные остатки Ялтинской системы, двухполюсного мира, что закреплено в составе Совета Безопасности ООН, где голосами обладают ядерные державы — «третий номос Земли», по К. Шмитту;
• влияние «однополярного момента», что проявляется в односторонних декларациях и действиях США и их партнеров по атлантистской коалиции относительно того, что считать зоной национальных интересов США (этой зоной объявлена вся территории планеты Земля в т. н. «доктрине Рамсфельда»347, формулировку которого относительно «превентивных ударов» несколько смягчил, но только по форме, Барак Обама);
• принципы глобализации, постепенно воплощающиеся институционально в транснациональные институты (например, такие, как международный Страсбургский Суд) и в системы обязательных правовых нормативов — демократии, прав человека, свободного рынка, то есть т. н. «общечеловеческих ценностей»).
В этой конструкции легко выделить основной вектор трансформации. Вес и значение однополярности и глобализации возрастают, система национальных государств и инерция двухполюсного мира слабеют. При этом наибольшие сдвиги отмечаются в ускоренном демонтаже Ялтинской системы и ликвидации остатков двухполярности. Беспрецедентный случай одностороннего вторжения вооруженных сил США и Великобритании в Ирак в 2001 году, его оккупация, уничтожение его законно избранного Президента, последующее создание марионеточного правительства и начало распада национальной государственности — и все это под надуманным предлогом наличия у Саддама Хусейна «химического оружия», доказательства чего так и не были представлены, а также вторжение в Афганистан и бомбежки Сербии показывают, что значение национального суверенитета отдельных государств становится все более и более относительным, а его силовая и правовая подоплека постепенно слабнет. Ведь никто из протестовавших против вторжения в Ирак государств — ни в Европе (Франция, Германия), ни в Евразии (Россия), ни в Азии (Китай) — не смогли политическими средствами остановить США и не посмели выдвинуть силовой аргумент, тем самым признав по факту «право сильного» на нарушение принципа суверенитета и создав, таким образом, прецедент, который рано или поздно может получить правовой статус.
В системе международного права происходит переход от «второго» и «третьего номоса Земли» к «четвертому». И в данный момент этим «четвертым номосом Земли» претендует стать глобализм и однополярность, а отнюдь не многополярный мир.
Правовой статус многополярности
Поэтому вопрос о правовом статусе многополярности является сегодня наиболее актуальным в мировой политике. Он отражает ход битвы за структуру «четвертого номоса Земли», который может быть либо однополярным и глобалистским, либо многополярным. Между собой скрещиваются два проекта архитектуры будущего — проект Моря (глобализация) и проект Суши (многополярность).
Постепенная институционализация однополярности и глобализма на фоне сохранения элементов прежних правовых моделей (второго и третьего номоса) налицо. Некоторые круги США уже предлагают более отчетливое оформление этой правовой модели, когда говорят о целесообразности создания вместо ООН (отражающей парадигмы прежних международно-правовых отношений) «Лиги Демократий»348. «Лига Демократий» мыслится как союз государств, которые полностью готовы подчиняться стратегии США и внедрять нормативы атлантизма и либеральной демократии в глобальном масштабе. Только «Лига Демократий» будет признаваться легальной и легитимной моделью международного права, а те, кто останется за ее бортом, правовым образом будут причислены к странам-изгоям за счет поражения в правах.
Формализация многополярного проекта и его оформление в правовой сфере пока не столь отчетливы, как в случае однополярного сценария. И тем не менее определенные действия по институционализации многополярности принимаются. Мы их здесь и рассмотрим.
Многополярность в российской доктрине Национальной Безопасности.
Российско-китайская декларация многополярности 1997 годаДалеко не маловажен факт, что термин «многополярность» фигурирует не только в выступлениях высокопоставленных политических деятелей, но и в ряде официальных документов. Таким образом, можно считать это первым шагом к институционализации этого понятия и его правового оформления.
Едва ли не впервые формула «многополярный мир» была употреблена в совместной российско-китайской декларации, принятой в Москве 23 апреля 1997 года. Она была подготовлена действующими Послами Китая и России в ООН — Сергеем Лавровым и Ванг Ксюексяном и подписана Президентами РФ Ельциным и главой КПК Дзян Дзимином349. В ней утверждалось, что «ушедший в прошлое двухполярный мир должен уступить место многополярному»350. В тот период большого значения этой формуле никто не придал, но факт заслуживает внимания.
Стратегия Национальной Безопасности Российской Федерации до 2020 года
В наше время мы находим обращение к многополярному миру в действующей Концепции Национальной Безопасности Российской Федерации, сформулированной в документе «Стратегия Национальной Безопасности Российской Федерации до 2020 года», утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537351.
Многополярность упомянута в самом начале — в пункте № 1:
«1. Россия преодолела последствия системного политического и социально-экономического кризиса конца XX века — остановила падение уровня и качества жизни российских граждан, устояла под напором национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвратила дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и территориальную целостность, восстановила возможности по наращиванию своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в качестве ключевого субъекта формирующихся многополярных (разрядка наша. — А. Д.) международных отношений»352.
Пункт № 25 этого же документа гласит:
«25. Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу заключаются:
• в развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности национальной экономики;
• в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации;
• в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях многополярного мира (разрядка наша. — А. Д.)»353.
Есть упоминание о многополярности и в 24-м пункте этого документа:
«24. Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности, сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах устойчивого развития:
(…) стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство, которые укрепляются на основе активного участия России в развитии многополярной модели мироустройства (разрядка наша. — А. Д.)»354.
Критика однополярного мира В. В. Путиным и евразийские тезисы
Термин «многополярность» перешел в этот действующий в настоящий момент документ из предшествующих аналогичных ему текстов. В частности, вскоре после избрания Президента В. В. Путина 10 января 2000 года он издает Указ № 24 «О Концепции Национальной Безопасности Российской Федерации»355, где в первом разделе, «Россия в мировом сообществе», прямо провозглашается курс на многополярность:
«Положение в мире характеризуется динамичной трансформацией системы международных отношений. После окончания эры биполярной конфронтации возобладали две взаимоисключающие тенденции.
Первая тенденция проявляется в укреплении экономических и политических позиций значительного числа государств и их интеграционных объединений, в совершенствовании механизмов многостороннего управления международными процессами. При этом все большую роль играют экономические, политические, научно-технические, экологические и информационные факторы. Россия будет способствовать формированию идеологии становления многополярного мира на этой основе (разрядка наша. — А. Д.)»356.
Чтобы не оставалось иллюзий в отношении того, чему противопоставляется многополярный мир, курс на строительство которого открыто провозглашен в этом тексте, следующий за ним абзац прямо осуждает однополярную систему миропорядка:
«Вторая тенденция проявляется через попытки создания структуры международных отношений, основанной на доминировании в международном сообществе развитых западных стран при лидерстве США и рассчитанной на односторонние, прежде всего военно-силовые, решения ключевых проблем мировой политики в обход основополагающих норм международного права»357.
Этот подход недвусмысленно осуждается. Более развернутую критику однополярного мироустройства Владимир Путин дал в своей знаменитой Мюнхенской речи спустя семь лет — в 2007 году358, продемонстрировав тем самым, что решимость российской власти противодействовать американской гегемонии и ее политике двойных стандартов является осознанной и долгосрочной стратегией. В. Путин, в частности, сказал:
«Чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере — и навязывается другим государствам»359.
А закончил эту речь он чрезвычайно важными словами: «Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня»360.
Та же по смыслу идея была сформулирована и в «Концепции Национальной Безопасности 2000 года», в первом пункте которой мы видим, как и в словах Путина в Мюнхене, прямое обращение к геополитике, евразийству и тематике Heartland’а:
«Россия является одной из крупнейших стран мира с многовековой историей и богатыми культурными традициями. Несмотря на сложную международную обстановку и трудности внутреннего характера, она в силу значительного экономического, научно-технического и военного потенциала, уникального стратегического положения на Евразийском континенте объективно продолжает играть важную роль в мировых процессах»361.
Игнорирование темы многополярности в российском экспертном сообществе
Надо отметить, что ни первый документ, подписанный В. В. Путиным в 2000 году, ни действующая «Стратегия Национальной Безопасности», утвержденная Президентом Д. А. Медведевым, совершенно не обсуждались в российском обществе — ни в кругу экспертов, ни в широких аудиториях, а обсуждение Мюнхенской речи толковалось лишь эмоционально и поверхностно.
Более того, можно заметить устойчивое нежелание российской элиты, и в первую очередь МИД РФ, всерьез определять понятие многополярности и делать хотя бы какие-то шаги в его конкретизации и построении программы действий. Возможно, причина этого лежит в том, что любое более или менее содержательное толкование многополярности неминуемо приведет к необходимости формулировать открыто ряд позиций, которые по объективным причинам непременно вызовут недовольство США. Любое серьезное осмысление многополярности приводит нас к остро стоящей дилемме: либо однополярный, либо многополярный мир. А это предполагает четкий и ясный выбор. Поскольку США строят однополярный глобальный мир (в одиночку, как предлагают неоконсерваторы или сторонники «Лиги Демократий», или вместе с «младшими партнерами», как предлагают апологеты многостороннего подхода и, в частности, администрация Президента Обамы) и не собираются сворачивать с этого пути, то внятная декларация ориентации на многополярность означает прямой вызов США. А к такому повороту событий не готово ни российское общество, ни правящая элита. Это и создает определенный диссонанс. В основных документах, определяющих военно-политическую стратегию России в международной сфере, недвусмысленно зафиксирован курс на многополярность, вместе с тем конфликтность такого подхода, заложенного в геополитическом смысле такой ситуации, аккуратно ретушируется в общественных дебатах и российских СМИ.
Тем не менее, мы имеем дело с важным фактом: курс на многополярность заложен в основных стратегических документах России и, значит, имеет определенный правовой статус в национальном законодательстве, а следовательно, мы имеем дело с первой стадией его институционализации.
Международные организации, способные стать основой многополярного миропорядка в правовом поле. ООН на современном этапе: геополитический анализ
С точки зрения многополярности можно посмотреть и на Организацию Объединенных Наций — в той форме, в которой она существует в актуальных геополитических условиях. ООН представляет собой итог предшествующей стадии глобализации, связанной с Вестфальской системой и отчасти с двухполюсным миром. В ООН мы имеем дело с парадигмой международного права, соответствующей «второму» и «третьему номосу Земли», по К. Шмитту, тогда как сегодня, в целом, мы постепенно переходим к «четвертому номосу Земли» (либо однополярному, либо многополярному). Именно поэтому наиболее радикальные сторонники однополярности и глобализации все чаще выступают с критикой ООН, и даже с призывами к роспуску этой организации.
На месте ООН представители жесткой американоцентричной однополярности предлагают создать «Лигу Демократий» во главе с США, а мондиалисты — «мировое правительство». Это два направления правового оформления новой расстановки сил в мире. В такой ситуации ООН становится консервативным институтом, сдерживающим тенденции развития глобализации. Хотя изначально ООН (как и Лига Наций, которая была ее предшественницей между Первой и Второй мировыми войнами) задумывалась как инструмент «глобализма», ее формат, с учетом краха двухполярного мира и ухода социалистического лагеря и СССР с мировой арены, устарел и тормозит институционализацию и легализацию иной картины мира.
В такой ситуации, если процессы глобализации пойдут по атлантистскому сценарию, реформирование (начиная с изменения структуры Совета Безопасности, о чем уже сегодня идет речь), а затем и роспуск ООН будут неизбежны. Однако переходные условия настоящего момента позволяют использовать ООН и сторонникам многополярного мира. Не представляя собой институт многополярности в чистом виде, перед лицом активизации однополярных и глобальных тенденций ООН может выполнять, временно и прагматически, защитную функцию, противодействуя этим тенденциям по инерции и самой структуре своего устройства. Это прекрасно осознают в США, подвергая ООН все более жесткой критике, высмеивая ее несостоятельность и недееспособность, укоряя в растрате впустую средств, выделяемых на ее содержание362, и т. д. В такой ситуации сторонники многополярного мироустройства вполне могут использовать ООН как прикрытие для организации более эффективных институтов многополярности. Воспринимая ООН как форму уходящего миропорядка, пока еще выживающую в тени его постепенного распада, и продлевая как можно дольше эту постепенность, можно попытаться в старых рамках заложить основы новых правовых институтов.
Если следовать этой линии осознанно и последовательно (как и поступает сегодня Российская Федерация, активизировавшая свою деятельность в ООН с 2007 года и увеличившая свою долю в финансировании этой организации), можно достичь определенных результатов:
• продлить сопротивление процессу однополярной глобализации и тем самым выиграть время для подготовки собственно многополярных структур и институтов (это наиболее вероятный проект);
• превратить ООН в момент окончательного кризиса в отношениях с США и перехода США к учреждению «Лиги Демократий» в собственно «многополярную структуру» (этот сценарий менее вероятен, так как ему будут активно противодействовать атлантистские силы, которые явно не оставят без боя такой институт своим стратегическим противникам).
БРИК: геополитика «второго мира»
Примером первого приближения к разработке многополярной международной структуры является создание неформального клуба «БРИК», созданного на основе четырех стран — Бразилии, России, Индии и Китая363. В него входят четыре государства: три державы евразийские — Россия, Индия, Китай, и одна латиноамериканская — Бразилия, с ярко выраженной принадлежностью к «цивилизации Суши», представляющих собой «большое пространство» и являющихся бесспорными лидерами в своих регионах.
«БРИК» выражает собой формы геополитического самосознания тех держав, которые, с одной стороны, имеют огромные достижения в экономической, военно-технической и ресурсной сферах, но вместе с тем существенно уступают странам Запада, существенно превосходя при этом все остальные незападные страны. Три державы обладают ядерным оружием (Россия, Китай, Индия), а Бразилия, по мнению некоторых ресурсов, близка к этому364. Китай и Индия в общей сложности насчитывают больше двух миллиардов населения. Россия обладает гигантскими территориями и природными ресурсами, а также сохраняет достаточно высокий военно-технический потенциал. Бразильская экономика развивается ускоренными темпами, превращая страну в регионального лидера и ядро всей Латинской Америки. Если сложить стратегический потенциал всех этих стран, то совокупно по многим параметрам он сопоставим со стратегическим потенциалом стран Запада, а в некоторых аспектах — и превосходит его365.
При этом все четыре страны находятся в состоянии активной модернизации и впитывают — по разному алгоритму — те технологические возможности, которые предоставляет глобальный мир и мировая экономика.
В однополярной конструкции страны БРИК мыслятся строго по отдельности, как промежуточные пояса между «ядром» и «мировой периферией». Элиты этих стран при таком подходе должны постепенно интегрироваться в мировую элиту, а массы — смешаться с другими низшими социальными стратами из соседних обществ, в том числе и из менее развитых через поток миграции, и утратить, таким образом, культурную и цивилизационную идентичность. То обстоятельство, что в странах БРИК развертываются глобализационные процессы, дает основание глобалистам полагать, что эти страны постепенно встроятся в общую систему однополярности.
Но с точки зрения многополярности функции БРИК могут быть совершенно иными. Если эти четыре страны смогут сформулировать общую стратегию, оформить консолидированные подходы к основным вызовам современности и разработать совместную геополитическую модель, то мы получим готовый мощный международный институт многополярного мира, обладающий колоссальными техническими, дипломатическими, демографическими и военными ресурсами.
БРИК можно осмыслить как потенциальный «второй мир»366. По определенным параметрам он будет отличаться и от «первого мира» («ядра», Запада) и от «третьего мира» («мировой периферии»). Если подойти к этому не с чисто количественных позиций (ресурсы, экономика, население, технологии и т. д.), но с учетом качественной особости обществ этих стран, то есть с позиции культуры и цивилизации, то можно увидеть в БРИК нечто совершенно новое и оригинальное.
В однополярной перспективе «второй мир» (БРИК) подлежит разделению на два сегмента: на элиты, интегрирующиеся в «первый мир», и массы, сползающие в «третий мир» и с ним смешивающиеся. Так оно происходит в ходе инерциального развития событий. Но если БРИК осмыслит свою историческую функцию не как простой этап в становлении глобальной мировой системы (И. Валлерстайн), а как новую парадигму, которая выработает иную стратегию, сохранит пропорции между элитами и массами в рамках общего цивилизационного проекта, то «второй мир» может стать серьезной альтернативой «первому» и указанием пути (и спасением) для «третьего». В этом случае формат простого «клуба» четырех стран, имеющих много общих черт в современном моменте развития, может органически перерасти в основу мощной мировой организации, способной диктовать остальным участникам мирового процесса свои требования в ультимативной форме (если это потребуется), а не просто сообщать частное мнение об одобрении или неодобрении того или иного действия США и его партнеров (как это имеет место сейчас).
Представим себе такую ситуацию. США собираются начать военную операцию в Ираке. Франция и Германия «не одобряют» такого шага. А четыре ядерные страны — Бразилия, Россия, Индия и Китай — говорят: «Нет, вы этого не сделаете!» Жесткость ультиматума будет подтверждена совокупным геополитическим потенциалом. Поодиночке США могут нанести непоправимый урон каждой из этих стран в отдельности — в военной, экономической, политической сферах. Но всем четырем странам — исключено.
Таким же образом могут решаться и другие вопросы, мнения по которым полярно расходятся у сторонников однополярного и многополярного мира — проблемы Сербии, Афганистана, Грузии, Тибета, Синьцзяня, Тавайн, Кашмира, а также ряд локальных проблем в Латинской Америке. Конечно, США постараются не создавать ситуаций, предполагающих заинтересованность в выработке общей позиции странами БРИК каждой из стран одновременно. На это и делается вся ставка, поскольку по отдельности с каждой из стран «второго мира» можно отношения уладить.
Но смысл многополярности в том и состоит, чтобы выработать правила международного порядка, которые отвечали бы не частной ситуации, в которой отдельная, пусть крупная, держава получает желаемое, но общему принципу, когда США и их союзникам вообще невозможно было бы развязывать острый конфликт в одностороннем порядке, не считаясь более ни с кем. Вторжение США в Ирак глубоко не затронуло ни Китай, ни Россию, ни Индию, ни Бразилию. Вторжение в Афганистан было сиюминутно (так казалось, по крайней мере) выгодно России и отчасти Индии (блокирование очага воинственного радикального ислама). Но серия подобных шагов со стороны США рано или поздно возведет такую манеру поведения в принцип и положит в основу правовой модели — как мы видим в проекте «Лиги Демократий». Поэтому США необходимо в подобных случаях жестко останавливать — заранее и по принципиальным причинам, а не из-за того, что нечто ситуативно выгодно или невыгодно той или иной стране «второго мира». Тут-то и проявляется закон «разделяй и властвуй» («divideetimpera», на латыни). Если «второй мир» будет консолидирован общей многополярной философией, стратегией и геополитикой, он будет недоступен однополярным интригам и сможет двигаться прямым путем к своей институционализации и приданию многополярным правилам правового характера.
Сегодня БРИК как организация находится в самом начале большого пути, и никто не может обещать, что этот путь будет легким. Однако существующая форма клуба четырех великих держав уже представляет собой форму, прообраз международной структуры, которая могла бы постепенно стать институциональным ядром многополярного мира.
Шанхайская Организация Сотрудничества
и ее геополитические функцииДругой структурой, которая имеет признаки многополярного института, является Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)367. Она задумана как форма постоянных консультаций ряда крупных держав Евразийского континента по поводу региональных проблем и вызовов, касающихся каждой из них. Сама идея ШОС свидетельствует о многополярном подходе, так как основана на предпосылках, что локальные проблемы должны решаться теми странами и теми обществами, которые имеют к ним прямое отношение. Глобальные инстанции при этом оставляются в стороне.
В ШОС на постоянной основе участвуют Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Этими странами эта организация и была учреждена в 2001 году после того, как Узбекистан принял решение присоединиться к «Шанхайской пятерке», образованной Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном и Киргизстаном в период с 1996 по 1997 год в ходе подписания друг с другом ряда соглашений по военному сотрудничеству. При формальном равноправии всех участников ШОС диспаритет потенциалов очевиден: в основании этой организации стоят Китай и Россия, а остальные страны, из числа бывших союзных республик Средней Азии, представляют «буферный регион», в котором традиционно сильно российское стратегическое присутствие и постепенно нарастает китайское. Чтобы согласовывать эти процессы и учитывать позиции стран Средней Азии, а также решать технические вопросы (противодействия терроризму, наркоторговле, сепаратизму, организованной преступности и т. д.), ШОС и была создана.
Россия и Китай недвусмысленно выражают свою ориентацию на многополярный мир, что полностью соответствует и позициям остальных участников ШОС, поэтому данная организация может рассматриваться как один из многополярных институтов.
Показательно, что в качестве стран-наблюдателей в ШОС принимают участие Индия, Иран, Пакистан и Монголия, то есть практически все крупные государства, имеющие непосредственное отношение к Центрально-Азиатскому региону. Если вновь обратиться к стратегическим аспектам многополярной теории, то мы увидим в ШОС потенциал для формирования полноценной коалиции Heartland’а, то есть того четвертого полюса, который является ключевым для построения квадриполярной архитектуры.
Россия, Иран, Индия и Пакистан являются главными узлами в зоне евразийской пан-идеи. А Китай, со своей стороны, опорой многополярности и соседней державой, от которой во многом зависит строительство многополярного мира. То есть в ШОС, если предположить участие в ней стран-наблюдателей на постоянной основе, мы имеем дело с мощнейшим инструментом глобальной политики, функционально сопоставимым с БРИК (тем более что в ШОС присутствуют три из четырех стран БРИК), но имеющим привязку к Евразийскому континенту.
Даже предварительные консультации по частным вопросам в таком составе уже превращают эту организацию в самостоятельную мировую силу. А проведение совместных военных учений (как это ежегодно имеет место, начиная с 2007 года) при благоприятных обстоятельствах вполне может стать основой военно-стратегического партнерства, а может быть, и «Евразийского Альянса», симметричного Альянсу Северо-Атлантическому (НАТО).
ШОС представляет собой еще один пример постепенного правового оформления многополярности368. А тот факт, что официальные декларации ШОС постоянно опровергают политический или стратегический характер этой организации, лишь показывает, что ее руководители стараются максимально отложить момент прямой конфронтации с глобализмом и однополярным миром, действуя по той же логике, что и при отказе от прояснения геополитического и стратегического смысла «многополярности» (о чем речь шла ранее).
Интеграционные организации постсоветского пространства
Рассмотрим более узкие интеграционные структуры, затрагивающие непосредственно территорию Heartland’а. К ним относятся:
• Евразийское Экономическое Сообщество, сокращенно ЕврАзЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан)369;
• Организация Договора о Коллективной Безопасности, сокращенно ОДКБ (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения)370;
• Таможенный союз (Россия, Казахстан, Беларусь)371;
• Единое Экономическое Пространство (Россия, Казахстан, Беларусь, Украина);
• Союзное Государство России и Белоруссии372.
Все эти организации ставят перед собой задачи новой интеграции Heartland’а в новых условиях и так или иначе ориентированы в первую очередь на Россию и на воссоздание вокруг нее общего «большого пространства». Такая цель и политическая география участников показывает, что эти организации нацелены на создание многополярного мира, в частности, на создание полноценного полюса четвертой зоны (евразийской пан-идеи). С геополитической точки зрения все они являются чисто евразийскими по своему качеству. При этом надо заметить, что евразийская философия интеграции пока разработана довольно слабо и фрагментарно. Единственно, что не подлежит сомнению: интеграционные процессы в рамках этих институтов не основаны ни на прямой территориальной экспансии России (как это было в период Российской Империи), ни, что очевидно, на основе коммунистической идеологии (как это было в советский период). Поэтому логично предположить, что философия интеграции постсоветского процесса будет многополярной и евразийской, то есть основанной на учете культурной, этнической и исторической самобытности каждого общества, вступающего заново в единое историческое «большое пространство» воссоздаваемого на новом историческом витке Heartland’а. Определенные шаги в этом направлении предпринимаются политическим руководством Казахстана, чей Президент Нурсултан Назарбаев открыто исповедует евразийские взгляды373. Именно он являлся инициатором создания большинства интеграционных структур, а в 1994 году в МГУ озвучил авангардный проект создания «Евразийского Союза» — как прямого аналога Европейского Союза, и даже предложил проект его «Конституции». Однако со стороны других участников этих структур, включая саму Россию, большого интереса к этой теме не проявляется, самым мягким объяснением чему (как мы уже неоднократно видели), вероятно, является нежелание обострять раньше времени отношения с США.
Вместе с тем США прекрасно осознают, что все интеграционные процессы на постсоветском пространстве неминуемо ведут к усилению Heartland'а и, следовательно, представляют собой угрозу американской военной гегемонии. Эти опасения находят выражение в официальных документах американского руководства — таких, как «план Вулфовица», настаивающий на том, что главной задачей американской стратегии безопасности является недопущение возникновения на территории Евразии блока, способного проводить самостоятельную политику без учета интересов США в регионе374. Поэтому в США была разработана система альтернативной организации постсоветского пространства. Смысл ее состоял в том, чтобы:
• оторвать страны СНГ от России;
• сблизить их с США и Евросоюзом;
• начать процесс интеграции их в НАТО;
• выстроить на пространстве СНГ антироссийскую коалицию;
• заменить в странах СНГ дружественные России или, по меньшей мере, нейтральные, политические режимы на антироссийские, прозападные и глобалистские;
• разместить в проамериканских странах американские военные объекты.
Для этой цели США и, в частности, фонд мондиалиста Дж. Сороса активно провоцировали «цветные революции» в Украине, Грузии, Молдове (попытки делались в Беларуси, Армении и Киргизии). А те страны, которые оказались в сфере влияния атлантизма, создавали собственные антироссийские. Антиевразийские коалиции — такие как ГУАМ375 (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) или эфемерное «Содружество демократического выбора», провозглашенное Ющенко и Саакашвили в 2005 году (Украина, Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Словения, Македония, Румыния).
Таким образом, все постсоветское пространство было поделено на евразийскую (интеграционную) и атлантистскую (дезинтеграционную) зоны. Обе зоны были включены в правовые и институционные процессы, которые призваны были зафиксировать структуру этих пространств в юридической форме — либо в однополярном (атлантистском, глобалистском), либо в многополярном (евразийском) ключе. Поэтому, несмотря на то, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве и их институциональное оформление носят локальный характер, по своему значению они имеют глобальный масштаб — ведь речь идет о выполнении необходимого условия многополярного мира: воссоздания политического пространства Heartland’а в объеме, необходимом для того, чтобы стать полноценным полюсом квадриполярной конструкции.
Все интеграционные структуры постсоветского пространства имеют различный характер.
ЕврАзЭс представляет собой экономическую структуру, призванную объединить экономики входящих в него стран.
ОДКБ — военно-политический союз.
Таможенный союз, запущенный только к 2010 году, — реально действующий механизм, интегрирующий территории России, Казахстана и Беларуси в единую зону с полностью идентичной системой экономического законодательства (в рамках Таможенного союза все трансакции, транспортные тарифы и т. д. осуществляются так, как если бы они находились в пределах единого государства).
Союзное Государство России и Беларуси — одобренная политическим руководством обеих стран и ратифицированная парламентами инициатива по созданию единой наднациональной государственности с общей системой управления, единым парламентом и т. д. Союз существует юридически, но его практическая реализация сталкивается с целым рядом трудностей.
Единое Экономическое Пространство — провозглашенная в 2003 году президентами четырех стран (России, Казахстана, Беларуси и Украины) инициатива экономической интеграции. Отличается от ЕврАзЭС и Таможенного союза присутствием Украины, ради которой и был предложен особый формат, которая в то время собиралась вступить в ВТО, а в 2008 году вступила. Интеграция с Украиной шла с большим трудом, не случайно эта страна стала членом антироссийского блока ГУАМ. Когда же Президент Кучма пошел на осторожное сближение с Москвой в 2003 году, прозападные силы (с опорой на США) осуществили «оранжевую революцию», задачей которой, в частности, был срыв вступления Украины в ЕЭП.
Таким образом, институционализация интеграционных инициатив на постсоветском пространстве, как мы видим, имеет не локальный, а глобальный характер, так как ее успех резко повышает шансы на создание многополярной системы, а ее провал, напротив, усиливает позиции сторонников американской гегемонии и глобализма.
Многополярный мир и Постмодерн
Многополярность как образ будущего и сухопутный Постмодерн.
Многополярность как инновационный авангардный концептМногополярная теория представляет собой своеобразное направление, которое не может быть квалифицировано упрощенно в терминах «прогресс» / «консерватизм», «старое» /«новое», «развитие» /«стагнация» и т. д. Однополярный взгляд на историю и, соответственно, глобалистская перспектива представляют исторический процесс как линейное движение от худшего к лучшему, от неразвитого к развитому и т. д. В этом случае глобализация видится как горизонт универсального будущего, а все, что глобализации препятствует — как инерция прошлого, атавизм или стремление сохранить «статус-кво» любой ценой. В силу такой установки глобализм и «цивилизация Моря» пытаются истолковать и многополярность, которая интерпретируется исключительно как консервативная позиция сопротивления «неизбежным переменам». Если глобализация — это Постмодерн (глобальное общество), то многополярность предстает как сопротивление Постмодерну (где есть элементы Модерна и даже Премодерна).
На самом деле можно взглянуть на вещи под иным углом зрения и отложить в сторону догматику линейного прогресса376 (или «монотонного процесса»377). Представление о времени как о социологической категории, на которой основывается философия многополярности, помогает интерпретировать общую парадигму многополярности в совершенно иной системе координат.
Многополярность в сравнении с однополярностью и глобализмом не есть просто обращение к старому, призыв сохранить все как есть. Многополярность не настаивает ни на сохранении национальных государств (Вестфальский мир), ни на восстановлении двухполярной модели (Ялтинский мир), ни на замораживании того переходного состояния, в котором сегодня пребывает международная жизнь.
Многополярность — это взгляд в будущее (такое, какого еще никогда не было), проект организации и миропорядка на совершенно новых принципах и началах, серьезный пересмотр тех аксиом, на которых покоится современность в идеологическом, философском и социологическом смыслах.
Многополярность, так же, как и однополярность, и глобализация, ориентируется на построение того, чего никогда еще не было раньше, на творческое напряжение свободного духа, философского поиска и стремление построить лучшее, более совершенное, справедливое, гармоничное и счастливое общество. Но только образ этого общества, его принципы и ценности, а также методы строительства его фундамента видятся радикально иными (нежели у глобалистов). Многополярность видит будущее многомерным, вариативным, дифференцированным, разнородным, сохраняющим широкую палитру выбора самоидентификации (коллективной и индивидуальной), а также полутона лимитрофных обществ, с наложением разных идентификационных матриц. Это модель «цветущей сложности» мира, где множество мест сочетаются с множеством времен, где в диалог вступают разномасштабные коллективные и индивидуальные акторы, выясняя, а подчас и трансформируя свою идентичность в ходе такого диалога. Западная культура, философия, политика, экономика, технология видятся в этом будущем мире лишь одним из локальных явлений, ни в чем не превосходящим культуру, философию, политику, экономику и технологию азиатских обществ, и даже архаических племен. Все, с чем мы имеем дело в лице разных этносов, народов, наций и цивилизаций, это равноправные вариации «человеческого общества» («MenschlicheGesellschaft»378), одни — «расколдованные» (М. Вебер) и материально развитые, другие — бедные и простые, но зато «околдованные» (М. Элиаде), священные, живущие в гармонии и равновесии с окружающим бытием. Многополярность принимает любой выбор, который делает то или иное общество, но всякий выбор становится осмысленным только в привязке к пространству и историческому моменту, а значит, остается локальным. Самая западная культура, воспринятая как нечто локальное, может восхищать и вызывать восторг, но ее претензия на универсальность и отрыв от исторического контекста превращают ее в симулякр, в «псевдоЗапад», в карикатуру и китч. Так, в определенной степени, произошло с американской культурой, в которой без труда узнается Европа, но Европа гипертрофированная, стерилизованная, лишенная внутренней гармонии и пропорций, шарма и традиций, Европа как универсалистский проект, а не как органичное, хотя и сложное, парадоксальное, драматическое, трагическое и противоречивое историческое и пространственное явление.
Многополярность как Постмодерн
Если мы обратимся к прошлому, то легко обнаружим, что многополярного мира, то есть международного порядка, основанного на принципе многополярности, никогда не существовало. Многополярность является поэтому именно проектом, планом, стратегией будущего, а не простой инерцией или косным сопротивлением глобализации. Многополярность смотрит в будущее, но видит его радикально иным, нежели сторонники однополярности, универсализма и глобализации, и стремится воплотить свое видение в жизнь.
Эти соображения показывают, что, в определенном смысле, многополярность тоже есть Постмодерн (а не Модерн и не Премодерн), но только другой, чем Постмодерн глобалистский и однополярный. И в этом особом смысле многополярная философия согласна с тем, что нынешний миропорядок, а также вчерашний (национальный или двухполюсный) несовершенен и требует радикальной переделки. Многополярный мир — это не отстаивание «второго» и «третьего номоса Земли» (по К. Шмитту), но битва за четвертый номос, который должен прийти на смену настоящему и прошлому. В той же степени многополярность есть не отвержение Постмодерна, но утверждение радикально иного Постмодерна и по сравнению с тем, что предлагается неолиберальными глобалистами и сторонниками однополярного мира, и по сравнению с критической антиглобалистской и альтерглобалистской позицией, которая основывается на том же самом универсализме, что и неолиберализм, только с обратным знаком. Многополярный Постмодерн, таким образом, представляет собой нечто иное, чем Модерн, Премодерн, неолиберальный глобализм, однополярный американоцентричный империализм и левацкий антиглобализм и альтерглобализм. Поэтому в случае оформления многополярности в систематизированную идеологию речь заходит именно о «Четвертой политической теории».
Многополярная идея признает, что национальные государства не отвечают вызовам истории и, более того, являются лишь подготовительной стадией глобализации. И поэтому она поддерживает интеграционные процессы в конкретных регионах, настаивая на том, чтобы их границы учитывали цивилизационные особенности обществ, исторически сложившихся на этих территориях (это вполне постмодернистская черта).
Многополярный проект допускает, что в международной политике должно возрастать значение новых негосударственных акторов. Но этими акторами должны быть, прежде всего, самобытные, исторически сложившиеся и имеющие привязку к пространству органические общества (такие, как этносы), к которым надо прислушиваться намного больше, чем это было раньше (это тоже постмодернистская черта).
Многополярная идея отказывается от универсальных, «больших нарративов» (рассказов), европейского логоцентризма, жестких властных иерархий и подразумеваемого нормативного патриархата. Вместо этого утверждается ценность локальных, многообразных и асимметричных идентичностей, отражающих дух каждой конкретной культуры, какой бы она ни была и сколь чуждой и отталкивающей она ни казалась остальным (и это постмодернистская черта).
Многополярная идея отбрасывает механистический подход к реальности, декартовское деление на субъект и объект, утверждая целостность, холизм и интегральный подход к миру — органичный и сбалансированный, основанный, скорее, на «геометрии природы» (Б. Мандельброт), чем на «геометрии машины». Отсюда вытекает экологизм многополярного мира, отказ от концепции «покорения природы» (Ф. Бэкон) и переход к «диалогу с природой» (это тем более постмодернистская черта).
Многополярный Постмодерн против однополярного (глобалистского/антиглобалистского) Постмодерна
Когда речь заходит о мере вещей в мире будущего, у многополярной теории и постмодернизма начинаются серьезные противоречия. Либеральный и неомарксистский постмодернизм оперирует с базовыми понятиями «индивидуума» и линейного «прогресса», которые мыслятся в перспективе «освобождения индивидуума», а на последней стадии — в перспективе «освобождения от индивидуума» и перехода к постчеловеку, киборгу, мутанту, ризоме, клону. Более того, именно принцип индивидуальности они считают универсальным.
В этих вопросах многополярная идея резко расходится с магистральной линией постмодернизма и утверждает в центре вещей — общество379, коллективную личность, коллективное сознание (Э. Дюркгейм), коллективное бессознательное (К. Г. Юнг). Общество есть матрица бытия, оно создает индивидуумов, людей, языки, культуры, экономики, политические системы, время и пространство. Но общество не одно, а обществ много, и они несоизмеримы друг с другом. Лишь в одном типе общества, а именно западноевропейском, индивидуум стал «мерой вещей» в столь абсолютной и законченной форме. А в других обществах он таковым не стал и не станет, потому что они устроены совершенно иным образом. И надо признать за каждым обществом неотъемлемое право быть таким, каким оно захочет, творить реальность по своим выкройкам, придавая индивидууму и человеку высшую ценность или не придавая никакой.
То же касается «прогресса». Поскольку время — явление социальное380, в каждом обществе оно структурировано по-разному. В одном обществе оно заключает в себе эскалацию роли индивидуума в истории, а в другом нет. Поэтому никакой предопределенности в масштабе всех обществ Земли в отношении индивидуализма и постчеловечества нет. Такова, вероятно, судьба Запада, связанная с логикой его истории. Но к другим обществам и народам индивидуализм имеет косвенное отношение, а если и присутствует в их культуре, то, как правило, в форме навязанных извне колониальных установок, чужеродных парадигме самих локальных обществ. Но именно колониальный империалистический универсализм Запада и является главным противником многополярной идеи.
Используя термины геополитики, можно сказать, что многополярность это сухопутная, континентальная, теллурократическая версия Постмодерна, тогда как глобализм (равно как и антиглобализм) — его морская, талассократическая версия.
Многополярность и теории глобализации.
Многополярность против мировой политииРассмотрим теперь основные теории глобализации и соотнесем их между собой с позиции многополярности.
«Теория мировой политии» (World Polity Theory — Дж. Мейер, Дж. Боли и др.), предполагающая создание единого мирового государства с опорой на индивидуальных граждан, максимально противоположна многополярности и представляет собой ее формальную антитезу. Точно так же тезисы «конца истории» (быстрого или постепенного) Ф. Фукуямы и все остальные жестко глобалистские однополярные проекты описывают как желательное и вероятное то будущее, которое полностью противоречит многополярному. В этом случае между многополярностью и теорией глобализации существуют отношения плюса и минуса, черного и белого, то есть радикальный ультимативный антагонизм: или/или. Или «мировая полития» или многополярность.
Многополярность и мировая культура
(в поддержку локализации)Более сложно обстоит дело с теорией мировой культуры (World Culture Theory — Р. Робертсон), а также с концепциями «трансформационистов» (Э. Гидденс и др.). Сюда же можно отнести и критические оценки глобализации в духе С. Хантингтона. В этих теориях анализируется баланс двух тенденций — универсализации (чистый глобализм) и локализации (Р. Робертсон), или нового появления контуров цивилизаций (С. Хантингтон). Если к универсализации отношение многополярной теории однозначно антагонистическое, то ряд явлений, обнаруживающихся в ходе глобализации как ее побочные эффекты, напротив, могут оцениваться позитивно. Ослабление социально-политического контекста национальных государств, в теориях этого толка, рассматривается с двух сторон: частично их функции передаются глобальным инстанциям, а частично оказываются в руках новых, локальных акторов. С другой стороны, также из-за хрупкости и расшатанности национальных государств все большее значение приобретает цивилизационный и религиозный фактор. Этот набор явлений, которые сопровождают глобализацию по факту и являются следствиями ослабления прежних моделей миропорядка (государственного и идеологического), заслуживают позитивного внимания и становятся элементами многополярной теории.
Побочные эффекты глобализации возвращают общества к конкретному пространственному, культурному и подчас религиозному контексту. Это означает усиление роли этнической идентичности, рост значения конфессионального фактора, повышенное внимание к локальным общинам и проблемам. Если суммировать эти явления, то они вполне могут быть осознаны как стратегические позиции многополярного миропорядка, которые надо фиксировать, закреплять и поддерживать. В «глокализации», описываемой Робертсоном, многополярность заинтересована в «локализации», с которой полностью солидарна. Сам Робертсон считает, что процессы «глокализации» не предрешены и могут качнуться в ту или иную сторону. Принимая этот анализ, сторонники многополярного мира должны сознательно прикладывать усилия, чтобы процессы качнулись в «локальную» сторону и перевесили «глобальную».
Многополярные выводы из анализа теории
мировой системы«Теория мировой системы» (World-System Theory) И. Валлерстайна для многополярной теории интересна тем, что адекватно описывает экономико-политический и социологический алгоритмы глобализации. «Мировая система», по Валлерстайну, представляет собой глобальную капиталистическую элиту, группирующуюся вокруг «ядра», даже если ее представители — выходцы из стран «периферии». «Мировой пролетариат», который постепенно от национальной идентичности переходит к классовой (интернациональной), воплощает «периферию» не просто географически, но и социально. Национальные государства являются не более чем площадками, на которых происходит один и тот же механический процесс — обогащение олигархов и их интеграция в сверхнациональное (глобальное) «ядро» и обнищание масс, постепенно сливающихся с рабочим классом других наций в ходе миграционных процессов.
Этот в целом корректный анализ, с точки зрения многополярной теории, не учитывает культурный и цивилизационный фактор (игнорирование которого свойственно марксизму, озадаченному прежде всего вскрытием механики экономического устройства общества в целом), а также геополитику. Между «ядром» и «периферией» в сегодняшнем мире располагается «второй мир», то есть региональные интеграционные образования («большие пространства»). По логике И. Валлерстайна, их существование ничего не меняет в общей структуре мировой системы и они представляют собой лишь шаг в сторону полной глобализации: интеграция элит в «ядро» и «интернационализация масс» проходит в них еще быстрее, чем в контексте национальных государств. Но по логике многополярной теории наличие «второго мира» радикально все меняет. Между элитами и массами интеграционных структур в рамках «второго мира» может возникнуть иная модель отношений, нежели прогнозирует либеральный или марксистский анализ. С. Хантингтон назвал этот процесс «модернизацией без вестернизации»381. Суть его состоит в том, что получающие западное образование и осваивающие западные технологии элиты стран периферии часто не интегрируются в глобальную элиту, но возвращаются в свое общество, подтверждают социализацию и коллективную идентичность в нем и ставят освоенные навыки на службу своим странам, не следующим за Западом, и даже противостоящим ему. Факторы культурной (часто религиозной) идентичности, цивилизационной принадлежности оказываются сильнее универсалистского алгоритма, заложенного в модернизационной технологии и породившей ее среде.
«Модернизация без вестернизации», а также региональная интеграция без глобальной интеграции представляет собой тенденцию, которую сам И. Валлерстайн игнорирует, но которую именно его анализ позволяет увидеть и четко описать. Для многополярной теории это становится важнейшим элементом и программным тезисом.
Что касается глобального горизонта, с которым, согласно большинству теорий глобализации, всем обществам теперь придется иметь дело, то многополярная теория может выдвинуть следующие принципы.
Истинная полнота и цельность мира схватываются в локальном, а не в глобальном опыте, но таком, который в отличие от обычного опыта, ориентирован иначе. Хайдеггер называл это «аутентичным экзистированием Dasein’а»382. Схватить мир как целое можно только через изменение бытия, а не через накопление все новых и новых данных, впечатлений, встреч, разговоров, информации, знаний. По Хайдеггеру, к изучению новых мест и ландшафтов человека толкает бегство от «подлинного бытия», воплощенное в фигуру «das Man» — безличного, усредненного, униформного начала, замещающего собой подлинный опыт бытия и растворяющего концентрацию сознания в «любопытстве» и «болтовне» (как в двух формах «неаутентичного экзистирования»)383. Чем проще коммуникации в глобальном мире, тем более они бессмысленны. Чем насыщеннее потоки информации, тем меньше люди способны осмыслять и расшифровывать их значение. Поэтому глобализация вообще никак не способствует приобретению опыта «целого мира» и, напротив, уводит от него, рассеивая внимание в бесконечной серии бессмысленных осколков, частей, не являющихся атрибутами чего-то целого, то есть частей самих по себе. «Глобальный горизонт» не достигается в глобализации, он постигается в глубоком экзистенциальном опыте «места».
Поэтому различные общества сталкиваются не с глобальным горизонтом, а с вызовом глобализма как наступающей на всех идеологии и практики, и этот вызов действительно ощущается повсеместно. Многополярная теория признает универсальность этого вызова, но считает, что он столь же универсально должен быть отражен — как катастрофа, несчастье или трагедия.
«Горизонт глобализма» мыслится как нечто, что следует победить, преодолеть, упразднить. Каждое общество сделает это по-своему, но многополярная теория предлагает обобщить, консолидировать и скоординировать все формы отрицательного ответа на вызов глобализации. Столь же глобальным, как вызов глобализации, должно быть его отвержение. Но структура этого отвержения, чтобы быть полноценной, самостоятельной и перспективной, должна быть многополярной и предлагать четкий и внятный проект того, что следует поставить на место глобализации, вместо нее.
Превратить яд в лекарство. «Оседлать тигра» глобализации: многополярная сеть
Строительство многополярного мира требует выработать особое отношение ко всем основным аспектам процесса глобализации. Мы видели, что, хотя многополярность противостоит однополярности и глобализации, речь идет не просто об отвержении всех трансформаций современности, но о том, чтобы придать этим трансформациям многополярный курс, повлиять на них и направить к тому образу, который видится как желательный и наилучший. Поэтому многополярность в определенных ситуациях призвана не столько фронтально противодействовать глобализации, сколько перехватить инициативу, пустить процессы по новой траектории и превратить «яд в лекарство» («оседлать тигра»384, по выражению китайской традиции). Такая стратегия повторяет логику «модернизации без вестернизации», только на более обобщенном и систематизированном уровне. Отдельные укоренные в региональной культуре общества заимствуют западные технологии для того, чтобы укрепиться и при определенных условиях отразить давление Запада. Многополярность предлагает осмыслить такую стратегию как систему, которая может служить общим алгоритмом для самых разных обществ.
Приведем несколько примеров реинтерпретации отдельных аспектов глобализма в многополярном ключе.
Возьмем явление сети и сетевого пространства. Само по себе это явление не нейтрально, но представляет собой результат серии последовательных трансформаций социологического понимания пространства в контексте «цивилизации Моря» по пути все большего «разжижения» информационной среды — от водной через воздушную к инфосфере. Параллельно этому сеть представляет собой конструкцию, воспринимающую наличие связей между элементами системы не органически, а механически. Сеть может быть выстроена между отдельными индивидуальными элементами, изначально никак не связанными друг с другом и не имеющими общей коллективной идентичности. И наконец, в феномене сети заложена перспектива преодоления человека и выход на постчеловека, если сделать акцент на самом функционировании самоорганизующихся систем, где центральность человека становится все более и более относительной (Н. Луман, М. Кастельс и т. д.). С этой точки зрения, сеть представляет собой реальность в высшей степени «морскую», атлантистскую и глобалистскую.
Но в классической геополитике мы видим, что противостояние Суши и Моря связано не столько с пребыванием в той или иной стихии, сколько с социологическими, культурными, философскими и только затем стратегическими выводами, которые разные общества делают из соприкосновения с Морем. К. Шмитт подчеркивал385, что, несмотря на создание мировой империи, основанной на мореплавании, испанское общество продолжало сохранять сугубо сухопутную идентичность, что сказалось, в том числе, и на социальной организации колоний, и на различии судеб Латинской Америки и англосаксонской Америки. Наличие развитого мореплавания необязательно делает державу «морской» в геополитическом смысле этого термина. Более того, задача цивилизации Суши, и в частности Heartland’а, состоит в том, чтобы получить доступ к морям, прорвать блокаду берегового контроля со стороны талассократии и начать конкурировать с ней в ее собственной стихии.
Точно так же обстоит дело и с сетевым пространством. Многополярному лагерю необходимо освоить структуру сетевых процессов, их технологии, научиться правилам и закономерностям поведения в сети, чтобы получить возможность реализовывать свои цели и задачи в этой новой стихии. Сетевое пространство открывает новые возможности малым акторам: ведь сайты гигантской ТНК планетарного уровня, великой державы и частного лица, минимально владеющего навыками программирования, ничем друг от друга не отличаются и, в определенном смысле, они оказываются в сходных условиях. То же самое справедливо для социальных сетей и блогов. Глобализация делает ставку на то, что распыление кодов на множество участников сети так или иначе встроит их в контекст, основными параметрами которого будут управлять владельцы физических серверов, регистраторы доменных имен, провайдеры и монополисты программного обеспечения. Но в антиглобалистских теориях Негри и Хардта мы видели, как это обстоятельство лево-анархистские теоретики предлагают повернуть в своих интересах, подготавливая «восстание множеств», призванных опрокинуть контроль «империи»386. Нечто аналогичное может быть предложено и в многополярной перспективе. Только речь идет не о хаотическом саботаже «множествами» установленных глобалистами нормативов, но о построении виртуальных сетевых цивилизаций, привязанных к конкретному историческому и географическому месту и обладающих общим культурным кодом. Виртуальная цивилизация может рассматриваться как проекция в сетевую среду цивилизации как таковой, предполагающая консолидацию в ней именно тех силовых линий и идентификационных установок, которые являются доминантами в соответствующей культурной среде. Этим уже пользуются различные религиозные, этнические и политические силы отнюдь не глобалистской, и даже антиглобалистской направленности, координируя действия с помощью различных инструментариев сети Интернет, а также распространяя свои взгляды и идеи.
Другой формой являются национальные домены и развитие сетевых коммуникаций в локальных языковых системах. При эффективной работе в этой среде это может способствовать укреплению культурной идентичности молодежи, естественным образом тяготеющей к новым технологиям.
Пример «китайского Интернета», где юридически и физически ограничен доступ к определенному типу сайтов, могущих, по мнению китайских правительственных экспертов, нанести ущерб безопасности китайского общества в политической, социальной или моральной сфере, показывает, что в некоторых случаях позитивный эффект для укрепления многополярности оказывают и чисто ограничительные меры.
Глобальная сеть может превратиться в многополярную, то есть в совокупность пересекающихся, но самостоятельных «виртуальных континентов». Таким образом, вместо сети появятся сети, каждая из которых будет виртуальным выражением конкретного качественного пространства. Все вместе эти континенты могут быть интегрированы в общую многополярную сеть, дифференцированную и модерируемую на основании многополярной сетевой парадигмы. В конце концов, содержание того, что находится в сети, есть не что иное, как отражение структур человеческого воображения387. Если эти структуры понимать многополярно, то есть как имеющие смысл лишь в конкретном качественном историческом пространстве, то нетрудно вообразить себе, чем мог бы быть Интернет (или его будущий аналог) в многополярном мире.
И на практическом уровне уже в настоящих условиях можно рассматривать сеть как средство консолидации активных социальных групп, личностей и обществ под эгидой продвижения многополярности, то есть как постепенное строительство многополярной сети.
Сетевые войны многополярного мира
Еще одним явлением эпохи глобализации являются сетевые войны. Методологии сетевых войн в общетеоретическом и прикладном аспектах также следует взять на вооружение при строительстве многополярного мира. В этом смысле адаптация сетецентрических принципов (Network centric Principles) при реорганизации Вооруженных Сил Российской Федерации388представляет собой совершенно оправданное решение, призванное укрепить позиции Heartland’а и повысить боеспособность армии, являющейся одним из главных элементов в многополярной конфигурации.
Сетецентрический принцип ведения войн имеет технические и принципиальные аспекты. Оснащение отдельных подразделений Российской армии сетевыми атрибутами (приборами слежения, оперативной двухсторонней связью, интерактивными техническими средствами и т. д.) является само собой разумеющейся стороной вопроса, не требующей особых геополитических обоснований. Гораздо важнее рассмотреть иной, более общий аспект сетевых войн.
Сетевая война, как явствует из трудов ее теоретиков, ведется постоянно и во всех направлениях — «против противников, союзников и нейтральных сил». Точно так же сетевые операции должны развертываться во всех направлениях и со стороны центра (или центров) строительства многополярного мира. Если учесть, что ведущим сетевую войну актором является не отдельное государство, но гибкая и многоуровневая структура, ставящая перед собой цель создания многополярного мира (как сетевая война со стороны атлантистов и глобалистов ставит своей целью установление однополярного мира от лица всего Запада), станет очевидным, что ведение этой войны разными полюсами (например, Россией, Китаем, Индией, Ираном и т. д.) сможет создавать интерференции и резонансы, многократно усиливающие эффективность сетевых стратегий.
При строительстве многополярного мира каждый полюс заинтересован не в усилении другого полюса, но в ослаблении мировой гегемонии гипердержавы. Тем самым сетевая война многополярного мира может представлять собой структуру спонтанной конвергенции усилий и от этого быть чрезвычайно эффективной. Усиление Китая выгодно России. Безопасность Ирана выгодна Индии. Независимость Пакистана от США позитивно скажется на ситуации в Афганистане и Центральной Азии и т. д. Ориентируя сетевые, информационные и имиджевые потоки, заряженные многополярно, во всех направлениях, можно сделать сетевую войну чрезвычайно эффективной, поскольку обеспечение интересов одного актора многополярного миропорядка будет автоматически работать на интересы другого. Координация в таком случае должна быть только на самом высшем уровне — на уровне представителей стран в многополярном клубе (как правило, это главы государств), где и будет согласовываться общая многополярная парадигма. А процессы сетевой войны будут воплощать общую стратегию в жизнь.
Второй важный момент теории сетецентричных войн состоит в подчеркивании повышенной чувствительности к начальным условиям. То, с какой точки начинается вероятный конфликт, какую позицию занимают участвующие в нем стороны и в какой информационной среде это происходит, может оказаться решающим для всего результата. Поэтому приоритетное внимание следует уделять подготовке среды — локальной и глобальной. Если расстановка сил, просчет последствий тех или иных шагов в информационной сфере, а также заблаговременная подготовка имиджевого обеспечения произведены корректно, то это может вообще исключить конфликтную ситуацию и обеспечить убежденность потенциального противника в бесперспективности сопротивления или вооруженной эскалации. Это касается как традиционных боевых действий, так и информационных войн, где борьба ведется за влияние на общественное мнение.
Поэтому страны, провозглашающие ориентацию на многополярность, могут и должны активно использовать теории и практики сетецентрических операций в своих интересах. Теоретики сетевых войн справедливо считают их ключевым стратегическим инструментом ведения войны в условиях Постмодерна. Многополярность принимает вызов Постмодерна и начинает битву за Постмодерн. Сетецентричные операции представляют собой одну из наиболее важных территорий ведения этой битвы.
Многополярность и диалектика хаоса
Другой пример, на котором можно проследить стратегию превращения «яда в лекарство», это феномен хаоса. Хаос все чаще фигурирует в современных геополитических текстах389, а также в теориях глобализации. Сторонники жесткого однополярного подхода (такие как С. Манн390) предлагают манипулировать хаосом в интересах «ядра» (то есть США). Антиглобалисты и постмодернисты приветствуют хаос в буквальном смысле — как анархию и беспорядок. Другие авторы пытаются увидеть в хаотической реальности зародыши порядка и т. д.
Многополярный подход трактует проблему хаоса следующим образом.
Во-первых, мифологическая концепция «хаоса» как состояния, противостоящего «порядку», есть продукт преимущественно греческой (то есть европейской) культуры. Это противопоставление изначально основано на исключительности порядка, а впоследствии, по мере развития философии, когда порядок отождествился с рациональностью, хаос и вовсе превратился в чисто негативный концепт, синоним иррациональности, темноты и бессмысленности.
Но можно подойти к этой проблеме и с другой стороны, в менее эксклюзивистском ключе. И тогда хаос откроется нам как инстанция, не противостоящая порядку, но предшествующая его обостренному логическому выражению. Хаос — не бессмыслица, но матрица, из которой рождается смысл391. В западноевропейской культуре «хаос» есть однозначное «зло». А в других культурах — вовсе нет. Многополярность отказывается считать западноевропейскую культуру универсальной, а значит, и «хаос» утрачивает свой однозначный негатив, равно как и коррелированный с ним «порядок» — свой позитив. Многополярность не рассуждает в терминах «хаоса» или «порядка», но всякий раз требует пояснений, какой «хаос», и какой «порядок», и каков смысл того и другого термина в конкретной культуре. Как понимает «хаос» и «порядок» западная культура, мы приблизительно знаем. А как его понимает, например, китайская философия и культура? Ведь ключевое для китайской философии понятие «Дао» («Путь») во многих текстах описывается в терминах, удивительно напоминающих описания хаоса392. Поэтому многополярный подход констатирует, что понимание хаоса и порядка должно быть привязано к цивилизации, а ею может быть вовсе не только западная цивилизация.
Во-вторых, под «хаосом» в геополитическом смысле глобалисты часто понимают то, что не укладывается в их представление об упорядоченных социально-политических и экономических структурах и что противится установлению глобальных и «универсальных», по их мнению, ценностей. В этом случае в разряд «хаоса» попадает все то, что является ценным для строительства многополярного мира, что настаивает на иных формах идентичности и, следовательно, несет в себе зерна многополярного порядка. В этом случае «хаос» является опорой для строительства многополярного мира и его животворным началом.
И наконец, хаос как чистый беспорядок или слабо организованные спонтанные процессы, происходящие в обществе, также могут быть рассмотрены с позиции многополярности. И если естественным или искусственным путем возникает хаотическая ситуация (конфликт, волнения, столкновения и т. д.), необходимо научиться управлять ею, то есть освоить искусство модерации хаоса. В отличие от упорядоченных структур, хаотические процессы не поддаются прямолинейной логике, но это не означает, что они совсем ее не имеют. Логика у хаоса есть, но она более сложна и многогранна, нежели алгоритмы нехаотических процессов. Вместе с тем она поддается научному исследованию и активно изучается современными физиками и математиками. С точки зрения прикладной геополитики, при строительстве многополярного мира она вполне может стать одним из эффективных инструментов.
1 Schmitt C. Der Begriff des Politisches. Berlin: Duncker und Humbolt, 1932.
2 Schmitt C. Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventions verbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegrif im Völkerrecht. Berlin: Deutscher Rechts Verlag, 1939.
3 Schmitt C. Der Nomos der Erdeim Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum. Berlin: Duncker und Humblot, 1950.
4 Mouffe Ch. Schmitt’s Vision of a Multipolar World Order // The South Atlantic Quarterly. 104:2. Duke University Press. Spring 2005.
5 Schmitt C. Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar; Genf; Versailles, 1923–1939. Berlin: Duncker&Humblot, 1994. S. 202.
6 Schmitt C. Der Begriff des Politisches.
7 Schmitt C. Land und Meer. Eineweltgeschichtliche Betrachtun. Leipzig, 1942.
8 Huntington Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y.: Simon&Schuster, 1996.
9 Дугин А.Г. Основы Геополитики. М.: Арктогея, 1997.
10 Дугин А.Г. Евразийский Проект. М.: Эксмо; Яуза, 2004.
11 Дугин А.Г. Теория Многополярного Мира. М.: Евразийское Движение, 2012.
12 До конца «холодной войны» Уолтц брал за образец противостояние США и СССР как двух гегемоний. В настоящее время он склоняется к идее новой биполярности, где противовесом американскому гегемону будет выступать Китай как новый претендент на второй полюс.
13 «Можно зафиксировать два крупных надстроечных плана: тот, что можно назвать “гражданским обществом”, т. е. совокупностью организмов, обычно называемых “частными”, и тот, который является “политическим обществом”, или государством. Им соответствует функция “гегемонии”, которую доминирующая группа осуществляет во всем обществе, и функция “прямого господства”, или командования, которая выражается в государстве, в “юридическом” правительстве», — писал Грамши (Грамши А. Тюремные тетради. Часть первая. М.: Издательство политической литературы, 1991).
14 Зомбарт Вернер. Буржуа. М.: Наука, 1994.
15 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1992.
16 Грамши А. Тюремные тетради.
17 Cox R. Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method // Millennium. 12.1983.
18 Gill S. Gramsci, Historical Materialism and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
19 Неограмшист Николс Пратт определяет контргегемонию как «создание альтернативной гегемонии в зоне гражданского общества для подготовки политических изменений». Pratt N. Bringing politics back in: examining the link between globalization and democratization // Review of International Political Economy. Vol. 11. № 2. 2004.
20 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 4. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 419–459.
21 Валлерстайн И. После либерализма. М.: Едиториал УРСС, 2003.
22 Benoist de A. Vu de droite. Anthologie critique des idées contemporaines. P.: Copernic, 1977.
23 Benoist de A. Europe, Tiers monde, même combat. P.: Robert Laffont, 1986.
24 Зомбарт В. Торгаши и герои // Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. СПб.: Владимир Даль, 2005.
25 Бенуа А. де. Против либерализма. К Четвертой Политической Теории. СПб.: Амфора, 2009.
26 Валлерстайн И. После либерализма.
27 Hobson J. The Eurocentric Conception of World Politics: Western International Theory, 1760–2010. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
28 Дугин А.Г. Четвертая Политическая Теория. СПб.: Амфора, 2009.
29 Mann M. The autonomous power of the state: its origins, mechanisms and results // Archives Europeennes de sociologie. № 25. 1984.
30 На релевантность данного термина «политейя» в контексте Теории Многополярного Мира нам указала впервые Н. Сперанская.
31 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: Прогресс, 1990.
32 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.
33 Шмитт К. Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000.
34 Хантингтон С. Кто мы: Вызовы американской национальной идентичности. М.: ACT; Транзиткнига, 2004.
35 Негри А., Хардт А. Империя. М.: Культурная революция, 2006.
36 Soral A. Comprendre Empire. P.: Blanche, 2011.
37 Kagan R. Of paradise and power: America and Europe in the new world order. N.Y.: Vintage, 2004.
38 Greenberg A.S. Manifest Manhood and the Antebellum American Empire. Cambridge: U. Press, 2005.
39 Stephanson A. Manifest Destiny: American Expansion and the Empire of Right (Critical Issue Book). Hill and Wang, 1996.
40 Мутти К. Империя. М.: Евразийское движение, 2013; Benoist A. de. L'idée d'Empire // Actes du XXIVe colloque national du GRECE. Nation et Empire. Histoire et concept. Paris: GRECE, 1991.
41 Kaplan R.D. The coming Anarchy: Shaterring dream of the Cold War. N.Y.: Random House, 2000.
42 Дюмон Л. Эссе об индивидуализме. Дубна: Феникс+, 1997.
43 Негри А., Хардт А. Империя.
44 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 2007.
45 Beck U. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986.
46 Hock D. Birth of the Chaordic Age. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc., 1999.
47 Делёз Ж. Логика смысла. М., 1998.
48 Последним примером этой стратегии является неонацистский хаос Евромайдана и последующая за ними глубинная хаотизация Украины вплоть до ее демонтажа. До этого по тому же сценарию проходили операции в Афганистане, Ливии, Ираке, Сирии и т. д.
49 Лэш К. Восстание элит и предательство демократии. М.: Логос; Прогресс, 2002.
50 В телесериале X-files слоган был «The truth is out there».
51 Прямое могущество и косвенное могущество (лат.).
52 Шмитт К. Политическая теология.
53 Сораль А. Понять Империю. М.: Евразийское движение, 2012.
54 Здесь и далее мы будем использовать аббревиатуру ТММ для обозначения Теории Многополярного Мира.
55 Выражение Международные Отношения (МО) мы пишем с большой буквы или в сокращении МО в том случае, если речь идет об особой политологической дисциплине «Международные Отношения», академическая институционализация которой насчитывает около 100 лет. В англоязычной среде этому соответствует International Relations (IR). С маленькой буквы это словосочетание («международные отношения») мы будем писать в тех случаях, когда речь идет собственно об этих отношениях, а не о дисциплине, которая их исследует.
56 Kampf David. The Emergence of a Multipolar World // Foreign Policy. Oct. 20. 2009. http: //foreignpolicyblogs. com /2009 /10 /20 /theemergenceofamultipolarworld /
57 Kennedy Paul. The Rise and Fall of the Great Powers. Unwin Hyman, 1988.
58 Walton Dale C. Geopolitic and the great Powers in the Twentyfirst Century. Multipolarity and the revolution in the strategic perspective. L.; N.Y.: Routledge, 2007.
59 Hiro Dilip. After Empire. The birth of a multipolar world. N.Y.: Nation books, 2009.
60 Petito Fabio. Dialogue of Civilizations as Global Political Discourse: Some Theoretical Reflections // The Bulletin of the World Public Forum «Dialogue of Civilizations». Vol. 1. № 2. 21–29. 2004.
61 См. раздел 2 этой работы.
62 Safire William. The End of Yalta // New York Times. July 09. 1997.
63 Krauthammer Ch. The Unipolar Moment // Foreign Affairs. 1990 /1991 Winter. Vol. 70. № 1. С. 23–33.
64 Wallerstein I. Geopolitics and geoculture: essays on the changing worldsystem. Cambridge: Press Syndicate, 1991.
65 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2004.
66 Kaplan R.D. Imperial Grunts: On the Ground with the American Military, from Mongolia to the Philippines to Iraq and Beyond. N.Y.: Vintage, 2006.
67 Fukuyama Francis. «After Neoconservatism» // The New York Times Magazine. 2006.02.19.
68 http: //www. newamericancentury. org.
69 Krauthammer Charles. The Unipolar Moment Revisited // National Interest. Vol. 70. Winter. 2002. Р. 5–17.
70 McCain John. America must be a good role model // Financial Times. March. 18. 2008.
71 Haass Richard N. The Age of Nonpolarity. What Will Follow U.S. Dominance // Foreign Affairs. May /June. 2008.
72 Sen Amartya. Democracy as a Universal Value // Journal of Democracy. 10.3. 1999.
73 Jackson R., Sorensen G. Introduction to International Relations. Oxford: Univeristy Press, 2010; Reus-Smit Ch., Snidal D. The Oxford Handbook of International Relations. Oxford: University Press, 2008.
74 Donneli J. Realism and IR. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
75 Batistella D. Theories des relations internationales. P.: Presse de Sciences Po, 2003.
76 Batistella D. Theories des relations internationales.
77 Waltz K. Theory of International Politics. McGraw Hill. N.Y., 1979.
78 Waltz K. Man, the State, and War. Columbia University Press. N.Y., 1959.
79 Waltz K. The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed. W. W. Norton & Company. N.Y., 1995.
80 Gilpin R. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. N.Y., 2001.
81 Walt S. Taming American Power: The Global Response to U. S. Primacy. W. W. Norton, 2005; Idem. American Hegemony: Its Prospects and Pitfalls // Naval War College Review, Spring, 2002.
82 Rupert M. Producing Hegemony: The Politics of Mass Production and American Global Power. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
83 Woolf Leonard. International Government. London: Allen & Unwin, 1916.
84 Cobden R. Political writings. 2 vol. London: Fisher Unwin, 1903.
85 Angell N. The Great Illusion — a Study of the Relation of Military Power to National Advantage. London: Heinemann, 1910.
86 Rosenau J. Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity. Princeton, 1990.
87 Doyle M. Liberalism and World Politics // American Political Science Review, 80 (4), р. 1151–1169, 1986.
88 Rosenau J. Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity. Princeton, 1990.
89 Nye Joseph S. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. N.Y.: Basic Books, 1990.
90 Keohane Robert O. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton, 1984.
91 Keohane Robert O., Nye Joseph S. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston: Little, Brown and Company, 1977.
92 Nye Joseph S. Soft Power: The Means To Success In World Politics. Public Affairs, 2004.
93 Bull H. The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics. N.Y.: Columbia University Press, 1977.
94 Wight Martin. Systems of States. Leicester: Leicester University Press, 1977.
95 Vincent R.J. Human Rights and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
96 Mearsheimer John J. E. H. Carr vs. Idealism: The Battle Rages On // International Relations. Vol. 19. № 2.
97 Wallerstein I. Geopolitics and geoculture: essays on the changing world-system. Cambridge: Press Syndicate, 1991.
98 Wallerstein I. World-Systems Analysis: An Introduction. Durham, North Carolina: Duke University Press, 2004.
99 Wallerstein I. The End of the World As We Know It: Social Science for the Twenty-first Century. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.
100 Wallerstein I. After Liberalism. N.Y.: New Press, 1995.
101 Wallerstein I. Utopistics: Or, Historical Choices of the Twenty-first Century. N.Y.: New Press, 1998.
102 Wallerstein I. After Liberalism. N.Y.: New Press, 1995.
103 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Соч. 2-е изд. Т. 4. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 419–459.
104 Дугин А. Этносоциология. М.: Академический Проект, 2011. С. 531–534.
105 Негри А., Хардт М. Империя. М.: Праксис, 2004.
106 Негри А., Хардт М. Множество: война и демократия в эпоху империи. М.: Культурная революция, 2006.
107 Wendt Alexander. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
108 Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст. М., 2001; Dumont L. Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne. Paris: Le Seuil, 1983.
109 Латур Бруно. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2006.
110 Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010.
111 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen. Kritisch-genetische Edition. Herausgegeben von Joachim Schulte. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Frankfurt, 2001.
112 Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977.
113 Бурдье П. Поле науки. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2002.
114 Фуко Мишель. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002.
115 Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005.
116 Миллс Ч. Р. Властвующая элита. М.: Иностранная литература, 1959.
117 Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. М.: АСТ; Хранитель, 2007.
118 Batistella D. Theories des relations internationsles. P.: Presse de Sciences Po, 2003.
119 Reus-Smit Ch., Snidal D. International Relations. Oxford: Oxford University Press, 2008.
120 Robert W. Cox. Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory // Millennium 10, 1981; Idem. Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method // Millennium 12, 1983.
121 Гегель. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1994.
122 Cox R., Schechter M. The Political Economy of a Plural World: Critical Reflections on Power, Morals and Civilization. L.; N.Y.: Routledge, 2002.
123 Linklater A. Critical Theory and World Politics: Citizenship, sovereignty and humanity. L.; N.Y.: Routledge, 2007.
124 Ashley Richard. The Achievements of Poststructuralism / Steve Smith, Ken Booth, Marysia Zalewski (eds.). International Theory: Positivism & Beyond, Cambridge: Cambridge UP, 1996. Р. 240–253.
125 Ashley R., Walker R. B. J. (eds.). Speaking the Language of Exile: Dissidence in International Studies // International Studies Quarterly. Vol. 34. № 3. September. 1990.
126 Walker Rob. B.J. Inside/Outside: International Relations as Political Theory, Cambridge: Cambridge UP, 1993.
127 Derian James Der, Shapiro Michael J. (eds.). International // Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics. Lexington; MA: Lexington Books, 1989.
128 Ashley R. The Powers of Anarchy: Theory, Sovereignty, and the Domestication of Global Life // Derian D. (ed.) International Theory: Critical Investigations. L.: MacMillan, 1995.
129 Ashley R. The Eye of Power: The Politics of World Modeling // International Organization, Vol. 37. № 3. Summer. 1983. Р. 495–535.
130 Elshtain J.B. Women and War. N.Y.: Basic Books, 1987.
131 Enloe Cynthia. Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. L.: Pandora Press, 1990.
132 Tickner J. Ann. Gendering World Politics. Columbia University Press, 2001.
133 Clough P.T. Feminist Thought. Cambridge: Blackwell Publishers, 1994.
134 Tickner J. Ann. Hans Morgentau’s Principles of Pjlitical Realism. A Feminist Reformulation/Derian D. (ed.). International Theory: Critical Investigations. L.: MacMillan, 1995.
135 Waltz M. Man, State and War. N.Y.: Columbia University Press, 1959.
136 Enloe Cynthia. Bananas, Beaches and Bases.
137 Haraway Donna. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century// Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. N.Y.: Routledge, 1991. Р. 149–181.
138 Негри А., Хардт М. Империя.
139 Walzer Michel. Thinking Politically. Yale: Yale University Press, 2007.
140 Brown Chris. Understanding International Relations. Basingstoke: Palgrave Publishing, 2005.
141 Frost M. Towards a Normative Theory of International Relations & Ethics and International Relations Consensus. Cambridge: CUP, 1986.
142 Halliday Fred. Rethinking International Relations. L.: Macmillan, 1994.
143 Hobden Stephen. International Relations and Historical Sociology: Breaking Down Boundaries & L.N.Y.: Routledge, 1998.
144 Hobden Stephen, Hobson John M. Historical sociology of international relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
145 Buzan Buzan Barry, Little Richard. The historical expansion of international society // Denemark, Robert Allen (ed.). The international studies encyclopedia. Wiley-Blackwell in association with the International Studies Association. Chichester, UK, 2010.
146 Little R. The Balance of Power in International Relations: Metaphors, Myths and Models. Cambridge: University Press, 2007.
147 Walzer М. Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad Notre Dame. IN: Notre. Dame University Press, 1994.
148 Geertz Clifford. Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture // Geertz Clifford. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. N.Y.: Basic Books, 1973.
149 Hobden Stephen, Hobson John M. Historical sociology of international relations.
150 Buzan Barry, Little Richard. International Systems in World History: Remaking the Study of International Relations. Oxford: Oxford University Press, 2000.
151 Acharya Amitav, Buzan Barry (eds.). Non-Western international relations theory: perspectives on and beyond Asia. London: Routledge, 2010; Iidem. Why is there no non-Western international relations theory?: an introduction // International Relations of the Asia-Pacific. 7 (3). 2007; Iidem. Conclusion: on the possibility of a non-Western IR theory in Asia. International Relations of the Asia-Pacific. 7 (3). 2007.
152 Wendt Alexander. Social Theory of International Politics. Cambridge: University Press, 1999.
153 Onuf Nicholas. World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations. Columbia: University of South California Press, 1989.
154 Finnemore Martha. National Interests in International Society. Cornell: Cornell University Press, 1996.
155 Ruggie John. What Makes the World Hang Together? Neo-utilitarianism and the Social Constructivist Challenge// International Organization 52. 4 Autumn. 1998.
156 Peter J. Katzenstein (ed.). The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. N.Y.: Columbia University Press, 1996.
157 Guddzini Stefano. A reconstruction of Cоnstructivism in IR // European Journal of International Relations Copyright. Vol. 6 (2). 2000.
158 Finnemore Martha. National Interests in International Society.
159 Ibidem.
160 Peter J. Katzenstein (ed.). The Culture of National Security.
161 Onuf Nicholas. World of Our Making.
162 Wendt Alexander. Social Theory of International Politics. Cambridge: University Press, 1999.
163 Sen Amartya. Democracy as a Universal Value // Journal of Democracy. 10.3. 1999.
164 Самнер У. Народные обычаи. М., 1914.
165 Hobson J.M. The Eurocentric Conception of World Politics: Western International Theory. Р. 1760–2010.
166 Ibidem.
167 Яркие примеры такого подхода даны в работах культурных антропологов, в частности у Д. Эверетта, изучавшего одно из самых архаичных племен Южной Америки — «пирахан». Everett D. Don’t Sleep, There are Snakes. N.Y.: Pantheon Books, 2008. См. также: Дугин А. Социология воображения. М., 2010; Он же. Этносоциология. М., 2011.
168 См.: Sumner W. Folkways. Boston: Ginn, 1907.
169 Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2000.
170 Kelsen H. Reine Rechtslehre. Vienna, 1934.
171 Данилевский Н. Россия и Европа. М., 2007.
172 Buzan B., Little R. International Systems in World History. Oxford: Oxford University Press, 2010.
173 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996.
174 О расистском аспекте марксизма см.: Hobson J.M. The Eurocentric Conception of World Politics: Western International Theory. Р. 1760–2010.
175 Большое значение здесь играют теории Фернана Броделя, повлиявшие, в частности, и на концепт мир-системы И. Валлерстайна. См.: Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск: Полиграмма, 1993; Он же. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.: В 3 т. М.: Весь мир, 2006.
176 См.: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: Пер. с нем. М.: Весь мир, 2003; Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. А также: Дугин А. Постмодерн или ультрамодерн? // Дугин А. Поп-культура и знаки времени. СПб.: Амфора, 2005. С. 436–445.
177 Huntington Samuel. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. L.: Simon, 1996.
178 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2004.
179 Другие дефиниции см. в: Katzenstein Peter J. Civilizations in World Politics: Plural and Pluralist Perspectives. London, UK: Routledge, 2010.
180 Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность. М.: Наука, 1993.
181 Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991.
182 Buzan B., Little R. International Systems in World History. Oxford: Oxford University Press, 2010.
183 Позднее Ф. Фукуяма признал, что его оптимистический прогноз либеральной глобализации был слишком скоропалительным и в реальности все обстояло далеко не так, как он описал в своей программной работе, сделавшей его знаменитым. Фукуяма Ф. Идеи имеют большое значение. Беседа с А. Дугиным // Профиль. 2007.
184 Дугин А.Г. Теория Многополярного Мира. М.: Евразийское Движение, 2012.
185 Шмитт К. Номос Земли: Civitas Terrena. М., 2008.
186 Шмитт К. Номос Земли: Civitas Terrena.
187 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв.: В 3 т. М.: Весь мир, 2007; Он же. Структуры повседневности. М., 1986.
188 Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. М.; СПб., 2001.
189 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006.
190 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-романскому. СПб.: Изд-во СПб. ун-та; Изд-во «Глаголь», 1995.
191 Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1990.
192 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1992.
193 Frobenius Leo. Paideuma: Umrisse einer Kultur- und Seelenlehre. München: Beck, 1921–1928.
194 Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994.
195 Geertz Clifford. The Interpretation of Cultures. N.Y.: Basic Books, 2000.
196 Фрейд З. Тотем и табу. М., 1923.
197 Малиновский Бронислав. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. М.: РОССПЭН, 2004.
198 Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. СПб., 2002.
199 Durand G. Les Structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris: Borda, 1969.
200 Дугин А.Г. Этносоциология. М.: Академический Проект, 2011.
201 Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 2007.
202 Дугин А.Г. Четвертая Политическая Теория. СПб.: Амфора, 2009; Четвертая Политическая Теория // Альманах. 2010–2011. № 1–2.
203 Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер. Возможность Русской Философии. М.: Академический Проект, 2011.
204 Heidegger M. Sein und Zeit (1927). Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 2006.
205 Boas F. The Mind of Primitive Man. N.Y.: Macmillan, 1938.
206 Durkheim E. Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris: Libraire générale française, 1991.
207 Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М.: Восточная литература, 1996.
208 Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
209 Thurnwald R. Die menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologischen Grundlagen, 5 B. Berlin: de Gruyter, 1931–1934.
210 Mühlmann Wilhelm Emil. Methodik der Völkerkunde. Stuttgart: Ferdinand Enke, 1938.
211 Thomas W.I., Znaniecki F.W. The Polish Peasant in Europe and America: A Classic Work in Immigration History. Urbana.: University of Illinois Press, 1996.
212 Schmitt C. Völkerrechtliche Großraumordnung Mit Interventionsverbot Für Raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht. Berlin: Duncker & Humblot, 1988.
213 Eisenstadt S.N. The Civilizational Dimension of Modernity: Modernity as a Distinct Civilization // International Sociology. 16 (3) 2001. Р. 320–340.
214 Schmitt Carl. Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für Raumfremde Mächte — Ein Bitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht. Berlin: Duncker & Humblot, 1991.
215 Основы евразийства. М.: Арктогея-Центр, 2002.
216 Savarkar Vinayak Damodar. Hindutva. Delhi: Bharati Sahitya Sadan, 1989.
217 Friedman George, LeBard Meredith. The Coming War With Japan. N.Y.: St. Martin’s. Press, 1991.
218 Tshiyembe Mwayila. Would a United States of Africa work? Le Monde diplomatique (English edition). September. 2000.
219 Fox J. Paradigm Lost: Huntington’s Unfulfilled Clash of Civilizations Prediction into the 21st Century // International Politics, 42, 2005. P. 428–457; Henderson E.A., Tucker R. Clear and Present Strangers: The Clash of Civilizations and International Conflict // International Studies Quarterly. 45. 2001; Russett B.M., Oneal J.R., Cox M. Clash of Civilizations, or Realism and Liberalism Déjà Vu? Some Evidence // Journal of Peace Research 37. 2000; Said Edward. The Clash of Ignorance // The Nation. October. 2001.
220 Huntington Samuel P. (ed.). The Clash of Civilizations?: The Debate // Foreign Affairs. N.Y., 1996.
221 Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. L.: Sage, 1992.
222 Harris Lee. Civilization and Its Enemies: The Next Stage of History. N.Y.: The Free Press, 2004.
223 В этом его упрекает Эдвард Саид. Said Edward. The Clash of Ignorance.
224 Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 1997.
225 Michael M.S., Petito F. (eds.). Civilizational Dialogue and World Order: The Other Politics of Cultures, Religions, and Civilizations in International Relations. PalgraveMacmillan, 2009.
226 Khatami Mohammad. Dialogue among civilizations: a paradigm for peace. N.Y.: Theo Bekker, Joelien Pretorius, 2001; Köchler Hans (ed.). Civilizations: Conflict or Dialogue? Vienna: International Progress Organization, 1999.
227 Harrison Lawrence E., Samuel P. Huntington (eds.). Culture Matters: How Values Shape Human Progress. N.Y.: Basic Books, 2001.
228 Н.С. Трубецкой в этом же смысле противопоставлял как антагонистические концепты «Европу» и «человечество». Трубецкой Н. С. Европа и человечество // Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2001.
229 Shapiro M.J., Hayward R. Alker (eds.). Challenging Boundaries: Global Flows, Territorial Identities. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1996.
230 Ashley R. Living on Border Lines: Man, Poststructuralism and War // Derian Der, Shapiro M.J. (eds.). International /Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics Lexington, MA: Lexington Books, 1989.
231 Schmitt Carl. Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für Raumfremde Mächte — Ein Bitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht. Berlin: Duncker & Humblot, 1991.
232 Petito F., Odysseos L. The International Political Thought of Carl Schmitt: Terror, liberal war and the crisis of global order. L.; N.Y.: Routledge, 2007; Petito F., Odysseos L. (2006) Introducing the International Theory of Carl Schmitt: International Law, International Relations, and the Present Global Predicament (s) // Leiden Journal of International Law. Vol. 19. № 1. 2006.
233 Petito F., Odysseos L. The International Political Thought of Carl Schmitt: Terror, liberal war and the crisis of global order.
234 См.: Дугин А. Геополитика. М.: Академический Проект, 2011; Он же. Четвертая политическая теория. СПб.: Амфора, 2007.
235 См. часть 3 настоящего издания.
236 Schmitt Carl. Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für Raumfremde Mächte — Ein Bitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht.
237 Mann M. The autonomous power of the state: its origins, mechanisms and results //Archives Europeennes de sociologie. № 25. 1984.
238 На релевантность термина «политейя» в контексте Теории Многополярного Мира нам указала впервые Н. Сперанская.
239 Petitio F. Dialogue of Civilizations as Global Political Discourse: Some Theoretical Reflections // The Bulletin of the World Public Forum «Dialogue of Civilizations». Vol. 1. № 2, 21–29. 2004.
240 По поводу этого концепта см. Манифест 2001 г. французского движения GRECE (Ален де Бенуа) http: //grecefr. com /?page_id=64.
241 Waltz K. Theory of International Politics. N.Y.: McGraw Hill, 1979.
242 Lederach John Paul. Preparing for Peace. Syracuse: Syracuse University Press, 1996; Richmond Oliver P. Peace in International Relations. London: Routledge, 2008.
243 Rosenau J., Fagen W. A New Dynamism in World Politics: Increasingly Skillful Individuals? //JSTOR. Studies Quarterly. 41. 1997.
244 Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
245 Furtado C. A nova dependência, dívida externa e monetarismo.
246 Wallerstein I. After Liberalism. N.Y.: New Press, 1995.
247 Cox R.W. Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History. Columbia: Columbia University Press, 1987; Idem. Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method // Gill S. (ed.). Gramsci, Historical Materialism and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
248 Ashley R. The Eye of Power: The Politics of World Modeling // International Organization. Vol. 37. № 3. Summer. 1983.
249 Shapiro M.J. Textualizing Global Politics // Darian Der J., Shapiro M. J. (eds.). International / Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics. Lexington, MA: Lexington Books, 1989.
250 Darian Der J. (ed.). International Theory: Critical Investigations. L.: MacMillan, 1995.
251 Ashley R. Imposing International Purpose: Notes on a Problematic of Governance // Czempiel Ernst Otto, Rosenau James N. (eds.). Global Changes and Theoretical Challenges: Approaches to World Politics for the 1990-s. Lexington, MA: Lexington Books, 1989.
252 Darian Der J. Introducing Philosophical Traditions in International Relations // Millennium. Vol. 17. № 2. 1988.
253 Buzan B., Little R. International Systems in World History. Oxford: Oxford University Press, 2010.
254 О социологии времени см.: Дугин А. Социология воображения. М.: Академический Проект, 2010; Он же. Социология русского общества. М.: Академический Проект, 2011.
255 Hobson J.M. The Eurocentric Conception of World Politics: Western International Theory. Р. 1760–2010. Cambridge: Cambridge University, 2011.
256 Onuf Nicholas. World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations. Columbia: University of South California Press, 1989.
257 Buzan B., Little R. International Systems in World History. Oxford: Oxford University Press, 2010.
258 Morin E., Le Moigne J.L. L’intelligence de la complexité. Paris: L’ Harmattan, 1999.
259 Макиавелли Н. Государь. М.: Планета, 1990.
260 Dumont L. Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne. Paris: Le Seuil, 1983.
261 В этом отношении чрезвычайно релевантна «понимающая социология» М. Вебера, строящаяся как раз вокруг этого концепта и его всесторонне обосновывающая.
262 Фукуяма Ф. Идеи имеют большое значение. Беседа с А. Дугиным // Профиль. 2007.
263 См.: Дугин А. Этносоциология. М.: Академический Проект, 2011.
264 Шмитт К. Диктатура. СПб.: Наука, 2005.
265 Schmitt C. Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Berlin, 1938.
266 Рембо Артюр. Стихотворения. М.: Художественная литература, 1960.
267 Дугин А. Этносоциология. М.: Академический Проект, 2011.
268 Генон Р. Восток и Запад. Великая триада. М., 2005.
269 Генон Р. Кризис современного мира. М.: Арктогея, 1991.
270 Генон Р. Царство количества и знаки времени. М., 2004.
271 Дугин А. Конец экономики. СПб.: Амфора, 2009.
272 Wallerstein I. Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World. N.Y.: New Press, 2003.
273 Дугин А. Конец экономики.
274 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006.
275 Евразийцы называли его «идеократическим».
276 Дугин А. Конец экономики.
277 Дугин А. Конец экономики.
278 См.: Дугин А. Поп-культура и знаки времени. СПб.: Амфора, 2005.
279 Murray D., Brown D. (eds.). Multipolarity in the 21st Century. A New World Order. Abingdon, UK: Routledge, 2010; Ambrosio Th. Challenging America global Preeminence: Russian Quest for Multipolarity. Chippenheim, Wiltshire: Anthony Rose, 2005; Peral L. (ed.). Global Security in a Multi-polar World. Chaillot.
280 Turner Susan. Russia, Chine and the Multipolar World Order: the danger in the undefined // Asian Perspective. 2009. Vol. 33. № 1. Р. 159–184; Higgott Richard Multi-Polarity and Trans-Atlantic Relations: Normative Aspirations and Practical Limits of EU Foreign Policy. — www.garnet-eu.org. 2010. [Электронный ресурс] URL: http://www.garnet-eu.org/fileadmin/documents/working_papers/7610.pdf (дата обращения 28.08.2010); Katz M. Primakov Redux. Putin’s Pursuit of «Multipolarism» in Asia // Demokratizatsya. 2006. Vol. 14. № 4. Р. 144–152.
281 Krauthammer Ch. The Unipolar Moment // Foreign Affairs. 1990 / 1991 Winter. Vol. 70. № 1. Р. 23–33.
282 Haass R. The Age of Non-polarity: What will follow US Dominance? // Foreign Affairs. 2008. 87 (3). Р. 44–56.
283 Déclaration de M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères sur la reprise d’une dialogue approfondie entre la France et l’Hinde: les enjeux de la resistance a l’uniformisation culturelle et aux exces du monde unipolaire. New Delhi — 1 lesdiscours.vie-publique.fr. 7.02.2000. [Электронный ресурс] URL: http://lesdiscours.vie-publique.fr/pdf/003000733.pdf
284 Krauthammer Ch. The Unipolar Moment.
285 Евразийская миссия. Манифест Международного «Евразийского Движения». М.: Международное Евразийское Движение, 2005.
286 Евразийская миссия. Манифест Международного «Евразийского Движения». С. 88.
287 Евразийская миссия. Манифест Международного «Евразийского Движения». С. 88.
288 Евразийская миссия. Манифест Международного «Евразийского Движения». С. 45.
289 Manifeste de la GRECE. Paris: Labyrinthe, 2001.
290 Леонтьев К. Цветущая сложность. Избранные статьи. М.: Молодая гвардия, 1992.
291 Cole D. (ed.). Franz Boas’ Baffin Island Letter-Diary, 1883–1884 // Stocking George W. Jr. Observers Observed.Essays on Ethnographic Fieldwork. Madison: The University of Wisconsin Press, 1983. Р. 33.
292 Трубецкой Н. С. Европа и человечество. София, 1920.
293 Савицкий П.Н. Континент Евразия. М.: Аграф, 1997.
294 См.: Дугин А. Мартин Хайдеггер и возможность русской философии. М.: Академический Проект, 2010.
295 Conche M. Lucrèce et l’expérience. Saint-Laurent-Québec: Éditions Fides, 2000. См. также: Conche M. L'aléatoire. Paris: PUF, 1999.
296 Mondialisation without the world. Interview with Kostas Axelos — www.radicalphilosophy.com, 2005. [Электронный ресурс] URL: http://www.radicalphilosophy.com/pdf/mondialisation.pdf (дата обращения 02.08.2010).
297 Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер: возможность русской философии. М.: Академический Проект, 2010.
298 Husserl E. La crise de l’humanité européenne et la philosophie. P.: Philosophie, 2008.
299 Malraux A. La Tentation de l’Occident. P.: Grasset, 1926.
300 Трубецкой Н.С. Европа и человечество.
301 Huntington Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. New York: Simon and Schuster, 1996.
302 См.: Тойнби А. Дж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991.
303 Hettner A. Die Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden. Breslau: Ferdinand Hirt, 1927.
304 Nishida K. Logik des Ortes. Der Anfang der modernen Philosophie in Japan. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999.
305 Мартин Хайдеггер говорил о том, что «пространственность» (Raumlichkeit) является «экзистенциалом» Dasein’а. Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer, 1986. См. также: Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер: возможность русской философии.
306 Gurvitch Georges. The Spectrum of Social Time. Dordrecht: D. Reidel, 1964. См. также: Дугин А. Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический Проект, 2010; Он же. Социология русского общества. М.: Академический Проект, 2010.
307 Дугин А. Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. См. также: Дугин А.Г. Постфилософия. М.: Международное «Евразийское Движение», 2009.
308 См.: О содержании концепта «полюс» в постбиполярном мире; см. также: Buzan B., Waever O. Regions and Powers. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
309 Schmitt C. Raum und Grossraum im Volkerrecht // Zeitschrift für Volkerrecht. 1940. Vol. 24. № 2.
310 Tomlinson J. Globalization and Culture. Cambridge: Polity Press, 1999.
311 Nishida Kitaro. Intelligibility and the Philosophy of nothingness. Honolulu: East-West Center Press, 1958; Idem. An inquiry into the Good. New Haven; London: Yale University Press, 1990.
312 Дугин А. Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию; Он же. Социология русского общества. М.: Академический Проект, 2010.
313 Nishida Kitaro. An inquiry into the Good.
314 Evola J. Fenomenologia dell’individuo assoluto. Roma: Edizioni Mediterranee, 1974. На рус. яз.: Эвола Ю. Оседлать тигра. СПб.: Владимир Даль, 2005.
315 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2004.
316 Fukuyama Francis. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. Ithaca; N.Y.: Cornell University Press, 2004.
317 Евразийская миссия. Манифест Международного «Евразийского Движения».
318 Снесарев А.Е. Афганистан. М.: Госиздат, 1921.
319 Бабаян Д. Геополитика Китая на современном этапе: некоторые направления и формы. Ереван: Де-Факто, 2010.
320 Nye Joseph S.Jr. Soft Power: The Means To Success In World Politics // Public Affairs, 2004; Idem. The War on Soft Power // Foreign Policy. Macrh 25. 2012; Gallarotti Giulio. Soft Power: What it is, Why it’s Important, and the Conditions Under Which it Can Be Effectively Used // Journal of Political Power, 2011.
321 См.: Дугин А. Четвертая политическая теория. СПб.: Амфора, 2009; Dugin A. Fourth Political Theory. London: Arthos, 2012; Бенуа А. де. Против либерализма. К Четвертой политической теории. СПб.: Амфора, 2010; Четвертая политическая теория. М.: МГУ, 2011. Вып. 1, 2.
322 Дугин А.Г. Четвертая политическая теория. СПб.: Амфора, 2009; Он же. Четвертая политическая теория // Профиль. 2008. № 48 (603) от 22.12; Он же. Критика концепта модернизации. Консервативный ответ на основании четвертой политической теории. — www.konservatizm.org. 2010. [Электронный ресурс] URL: http://konservatizm.org/konservatizm/theory/210310203701.xhtml (дата обращения 01.09.2010); Матвиенко Ю. А. Военный аспект Четвертой политической теории. — www.konservatizm.org. 2010. [Электронный ресурс] URL: http://konservatizm.org/konservatizm/theory/010410162807.xhtml (дата обращения 01.09.2010); Бовдунов А. Л. В поисках Четвертой политической теории. — www.geopolitica.ru. 2008. [Электронный ресурс] URL: http://geopolitica.ru/Articles/434/ (дата обращения 01.09.2010); Жаринов С. Свобода как фундамент и цель Четвертой политической теории. — www.konservatizm.org. 2010. [Электронный ресурс] URL: http://konservatizm.org/konservatizm/theory/130410163922.xhtml (дата обращения 01.09.2010).
323 Бенуа Ален де. Против либерализма. К четвертой политической теории. СПб.: Амфора, 2009; Савин Л. В. К четвертой политической теории. Интервью с Аленом де Бенуа. — www.geopolitica.ru. 2009. [Электронный ресурс] URL: http://geopolitica.ru/Articles/808/ (дата обращения 01.09.2010).
324 Жаринов С. Свобода как фундамент и цель Четвертой политической теории.
325 Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию; Он же. Социология русского общества. М.: Академический Проект, 2010.
326 Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер: возможность русской философии. М.: Академический Проект, 2010.
327 Дугин А.Г. Четвертая политическая теория. СПб.: Амфора, 2009.
328 Бенуа Ален де. Против либерализма. К четвертой политической теории.
329 Там же.
330 Парвулеско Ж. Владимир Путин и Евразийская империя. СПб.: Амфора, 2006.
331 Бенуа Ален де. Против либерализма. К четвертой политической теории.
332 Шопрад Э. Россия — главное препятствие на пути создания американского мира //Русское время. 2010. № 2.
333 Путин В.В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. — kremlin.ru. 2007. [Электронный ресурс] URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type... (дата обращения 20.09.2010).
334 Grossouvre Henri de. Paris; Berlin; Moscow: Prospects for Eurasian Cooperation // World Affairs. 2004. Vol. 8. № 1. Jan.–Mar.
335 Hulsman J. Cherry-Picking: Preventing the Emergence of a Permanent Franco-German-Russian Alliance. — www.heritage.org. 2003. [Электронный ресурс] URL: http://www.heritage.org/Research/Reports/2003/08/Cherry-Picking-Preventing-the-Emergence-of-a-Permanent-Franco-German-Russian-Alliance (дата обращения 03.09.2010).
336 Mackinder H. Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction. Washington, D.C.: National Defense University Press, 1996. Р. 106.
337 Achcar G. Greater Middle East: the US Plan — www. mondediplo.co. 2004. [Электронный ресурс] URL: http://mondediplo.com/2004/04/04world (дата обращения 03.09.2010); Greater Middle East Project- en.emep.org. 2009. [Электронный ресурс] URL: http://en.emep.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53%3A-th... (дата обращения 03.09.2010).
338 Kilinc T. Turkey Should Leave the NATO — www.turkishweekly.net. 2007. [Электронный ресурс] URL: http://www.turkishweekly.net/news/45366/tuncer-kilinc-%F4c%DDturkey-should-leave-the-nato-.html (дата обращения 03.09.2010).
339 Изменения турецкой геополитики в последние два десятилетия подробно рассматриваются в книге: Dugin A. Moska–Ankara aksiaynin. Istambul: Kaynak, 2007.
340 Starr F. A «Greater Central Asia Partnership» for Afghanistan and Its Neighbors — www.www.stimson.org. 2005. [Электронный ресурс] URL: http://www.turkishweekly.net/article/319/the-greater-central-asia-partnership-initiative-and-its-impacts-on-eurasian-security.html (дата обращения 03.09.2010); Purtaş Fırat. The Greater Central Asia Partnership Initiative and its Impacts on Eurasian Security — www.turkishweekly.net. 2009. [Электронный ресурс] URL: http://www.turkishweekly.net/article/319/the-greater-central-asia-partne...-initiative-and-its-impacts-on-eurasian-security.html (дата обращения 03.09.2010).
341 Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы. М.: Международные отношения, 1998.
342 Снесарев А. Е. Афганистан.
343 Эйдельман Н. Грань веков. М.: Вагриус, 2004; Башилов Б. История русского масонства. М.: Русло, 1994.
345 Бартош А. А. Арктический вектор сил реагирования НАТО. — www.oborona.ru. 2010. [Электронный ресурс] URL: http://www.oborona.ru/283/308/index.shtml?id=3181 (дата обращения 03.09.2010).
346 Савельева С.Б., Шиян Г. Н. Арктика: укрепление геополитических позиций и экономическое развитие // Вестник МГТУ. 2010. Т. 13. № 1. С. 115–119.
347 Рамсфельд Д. Трансформирование вооруженных сил. Отечественные записки. 2002. [Электронный ресурс] URL: http://www.strana-oz.ru/?numid=9&article=353 (дата обращения 20.09.2010).
348 Автором идеи создания «Лиги Демократий» считается нынешний посол США в НАТО кадровый разведчик Н. Даалдер и теоретик международных отношений Энн Баефски, а также участники «Принстонского проекта» (Дж. П. Шульц и Энтони Лэйк). См.: Угланов А. «Лига Демократий» вместо ООН // Aргументы Недели. 2009. 12 (150). 26 марта. Публично ее озвучил кандидат от Республиканской партии США Дж. Маккейн. McCainJohn. League of Democracies (op-ed) // Financial Times. 2008. March 19. См. также: Kagan Robert.The Case for a League of Democracies // Financial Times. 2008. May 13. Связь проекта «Лиги Демократий» с глобалистскими и мондиалистскими концепциями Джорджа Сороса анализируется в статье Клифа Кинкейда: Kincaid Cliff. McCain, Soros, and the New «Global Order» — www.aim.org. 2008. [Электронный ресурс] URL: http://www.aim.org/aim-column/mccain-soros-and-the-new-global-order/ (дата обращения 20.09.2010).
349 Текст см. на сайте http://www.fas.org/news/russia/1997/a52–153en.htm (дата обращения 20.09.2010).
350 Там же.
351 Стратегия Национальной Безопасности Российской Федерации до 2020 года. — www.scrf.gov.ru.2009. [Электронный ресурс] URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html (дата обращения 20.09.2010).
352 Стратегия Национальной Безопасности Российской Федерации до 2020 года. — www.scrf.gov.ru.2009. [Электронный ресурс] URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html (дата обращения 20.09.2010).
353 Там же.
354 Там же.
355 Там же.
356 Стратегия Национальной Безопасности Российской Федерации до 2020 года. — www.scrf.gov.ru.2009. [Электронный ресурс] URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html (дата обращения 20.09.2010).
357 Там же.
358 Путин В.В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. — kremlin.ru. 2007. [Электронный ресурс] URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type... (дата обращения 20.09.2010).
359 Там же.
360 Там же.
361 О Концепции Национальной Безопасности Российской Федерации.
362 Например, сенатор республиканец Джесси Хелмс. См.: Senator Jesse Helms. Rebukes the U.N. — Newswatch.2000. [Электронный ресурс] URL: http://www.garymcleod.org/helms.htm (дата обращения 20.09.2010). Показательно также назначение Джорджем Бушем-младшим представителем США в ООН сенатора Джона Болтона, до этого открыто призывавшего «распустить ООН». См.: Gill Kathy. John Bolton, UN Nominee. — www.about.com. 2005. [Электронный ресурс] URL: http://uspolitics.about.com/od/politicalcommentary/a/ed_bolton.htm (дата обращения 20.09.2010).
363 BRICs and beyond. Goldman Sachs Global Economics Group. N.Y., 2007.
364 BRICs and beyond.
365 Ibidem.
366 Khanna Parag. Der Kampf um die zweite Welt — Imperien und Einfluss in der neuen Weltordnung. Berlin: Berlin Verlag, 2008.
367 Сайт организации в Интернете: http://www.sectsco.org/RU/ (дата обращения 05.10.2010).
368 Серебрякова Н.В. Шанхайская организация сотрудничества: многосторонний компромисс в Центральной Азии. М.: ИнфоРос, 2011.
369 Сайт организации в Интернете: http://www.evrazes.com/ (дата обращения 05.10.2010).
370 Там же.
371 Сайт организации в Интернете: http://www.tsouz.ru/AboutETS/Pages/default.aspx (дата обращения 05.10.2010).
372 Сайт организации в Интернете: http://www.soyuz.by/ (дата обращения 05.10.2010).
373 Дугин А.Г. Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева. М.: РОФ Евразия, 2004.
374 Сайт организации в Интернете: http://guam-organization.org/ (дата обращения 05.10.2010).
375 Там же.
376 Бенуа Ален де. Краткая история идеи прогресса // Бенуа Ален де. Против либерализма. К четвертой политической теории. СПб.: Амфора, 2010.
377 Дугин А.Г. Яд модернизации // Однако. 2010. № 10 (26). 22 марта.
378 Thurnwald R. Die menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologischen Grundlagen, 5 B. Berlin: de Gruyter, 1931–1934.
379 Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический Проект, 2010.
380 Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию.
381 Huntington Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. N. Y.: Simon and Schuster, 1996.
382 Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. М.: Академический Проект, 2010.
383 Глобализм Хайдеггер называл термином «планетэр-идиотизм», имея в виду исконное греческое значение слова ιδιοτεσ, означающее жителя полиса, лишенного гражданской идентичности, то есть принадлежности к роду, касте, профессии, культу и т. д. См.: Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала.
384 Эвола Ю. Оседлать тигра. СПб.: Владимир Даль, 2005.
385 Шмитт К. Земля и Море // Дугин А. Г. Основы геополитики. М.: Арктогея-центр, 2000.
386 Хардт М., Негри A. Империя. М.: Праксис, 2004.
387 Дугин А. Г. Социология воображения.
388 Свершилось: Российская армия переходит на сетецентрический принцип. — www.evrazia.org. 2010. [Электронный ресурс] URL: http://evrazia.org/news/12360 (дата обращения 12.09.2010).
389 Рамоне Игнасио. Геополитика хаоса. М.: ТЕИС, 2001.
390 Манн С. Теория хаоса и стратегическое мышление. — www.geopolitika.ru. [Электронный ресурс] URL: http://geopolitica.ru/Articles/890/ (дата обращения 05.08.2010).
391 Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер: возможность русской философии. М.: Академический Проект, 2010.
392 Лао-Цзы. Дао Дэ Цзин. СПб.: Феникс плюс, 1994.
Таблица 3
Интернациональные системы в МО и теория номоса К. Шмитта
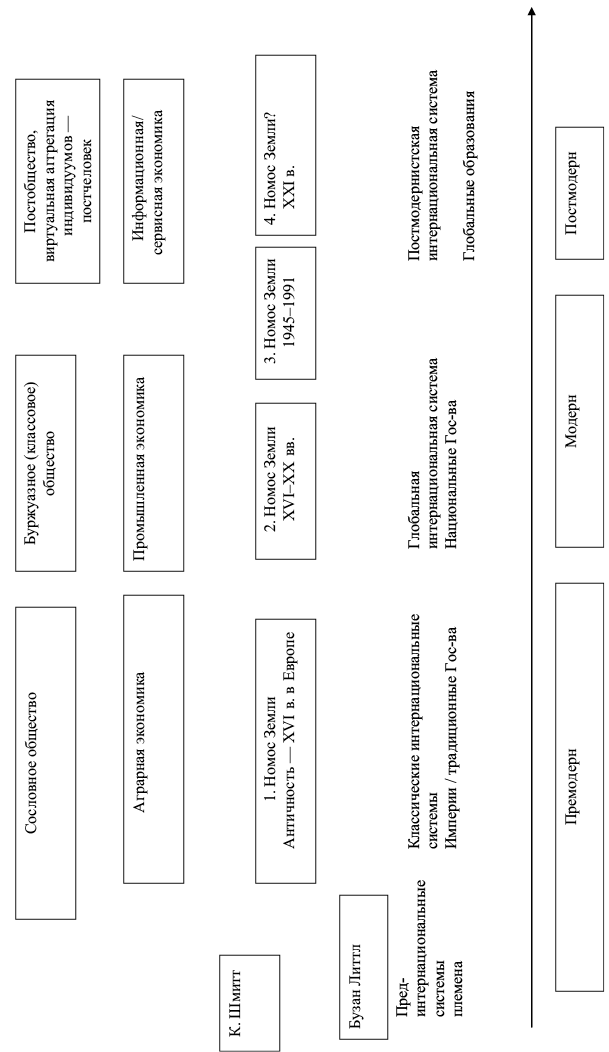
Библиография
Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996.
Бауман З. Текучая современность — Санкт-Петербург: Питер, 2008.
Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и его геостратегические императивы. М.: Международные отношения, 1998.
Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М.: Библион-Русская книга, 2003.
Бродель Ф. Структуры повседневности. М., 1986.
Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск: Полиграмма, 1993
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.: В 3 т. М.: Весь мир, 2006.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв.: В 3 т. М.: Весь мир, 2007.
Бурдье П. Поле науки. М.: Институт экспериментальной социологии. СПб.: Алетейя, 2002.
Бурдье П. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии. СПб.: Алетейя, 2007.
Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008.
Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М.: Издательский дом «Территирия будущего», 2006.
Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994.
Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
Гегель. Феноменология духа. Санкт-Петербург: Наука, 1994.
Генон Р. Восток и Запад. Великая триада. М., 2005.
Генон Р. Кризис современного мира. М.: Арктогея, 1991.
Генон Р. Царство количества и знаки времени. М., 2004.
Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть Государства церковного и гражданского // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. М., 1991. Т. 2.
Грамши А. Тюремные тетради. М.: Издательство политической литературы, 1991.
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1992.
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-романскому. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета; Издательство «Глаголь», 1995.
Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Издательство Логос, 1997.
Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 2007.
Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У–Фактория; М.: Астрель, 2010.
Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер. Возможность Русской Философии. М.: Академический Проект, 2011.
Дугин А.Г. Четвертая Политическая Теория. СПб.: Амфора, 2009; Четвертая Политическая Теория. Альманах. N. 1–2, 2010–2011.
Дугин А.Г. Этносоциология. М.: Академический Проект, 2011.
Дугин А. Геополитика постмодерна. СПб.: Амфора, 2007.
Дугин А. Геополитика России. М.: Академический проект, 2012.
Дугин А. Геополитика. М.: Академический проект, 2011.
Дугин А. Конец экономики. СПб.: Амфора, 2009.
Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М.: Арктогея, 1997.
Дугин А. Поп-культура и знаки времени. СПб.: Амфора, 2005.
Дугин А. Проект «Евразия». М.: Яуза, 2004.
Дугин А. Социология воображения. М.: Академический проект, 2010.
Дугин А. Этносоциология. М.: Академический проект, 2011.
Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст. М., 2001.
Кант И. К вечному миру. М.: Московский рабочий, 1989.
Киссинджер Г. Дипломатия. М.: Ладомир, 1997
Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? М.: Ладомир, 2002.
Клаузевиц К. О войне. М.:Эксмо, СПб.: Мидгард, 2007.
Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977.
Латур Бруно. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. — СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2006.
Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1950.
Лист Ф. Национальная система политической экономии. М.: Европа, 2005.
Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. М.: Азбука-классика, 2009.
Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2007.
Малиновский Бронислав. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. М.: РОССПЭН, 2004.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 4. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 419–459.
Миллс, Ч.Р. Властвующая элита. М.: Иностранная литература, 1959.
Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М.: Восточная литература, 1996.
Негри А., Хардт М. Империя. Москва: Праксис, 2004.
Негри А., Хардт М. Множество: война и демократия в эпоху империи. М.: Культурная революция, 2006.
Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990.
Основы евразийства. М. Арктогея-Центр, 2002.
Повесть временных лет // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 1997.
Самнер У. Народные обычаи. М, 1914.
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006.
Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991.
Трубецкой Н.С. Европа и человечество // Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2001.
Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2000.
Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. М.: АСТ; Хранитель, 2007.
Фрейд З. Тотем и табу. М., 1923.
Фуко Мишель. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002.
Фукуяма Ф. Идеи имеют большое значение. Беседа с А. Дугиным // Профиль. 2007.
Фукуяма Ф. Конец истории и Последний человек. М.: АСТ, 2004.
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2004.
Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005.
Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М.: Весь Мир, 2003.
Шмитт К. Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. СПб.: Наука, 2005.
Шмитт К. Левиафан в учении о Государстве Томаса Гоббса. М.: Владимир Даль, 2006.
Шмитт К. Номос Земли: Civitas Terrena. М.: Владимир Даль, 2008.
Шмитт К. Политическая теология. М:. Канон-Пресс-Ц, 2000.
Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 35–67.
Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность. М.: Наука, 1993.
Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. СПб., 2002.
Содержание
Введение 3
Часть 1. Плюриверсум и конец «однополярного момента» 5
Плюриверсум как основа Политического 7
Большое пространство, права народов и новые Империи 11
Критика либерализма и четвертый номос 13
Геополитический дуализм
как спасение Политического в 1990–2000-е годы 15
С. Хантингтон и плюриверсум цивилизаций 17
Принцип сплошного плюрализма 18
Плюриверсум как теория и проект 19
Контргегемония в Теории Многополярного Мира 21
Понимание «гегемонии» в реализме 21
Гегемония в концепции Антонио Грамши 22
Грамшизм в критической теории: левый уклон 25
«Грамшизм справа» — ревизия Алена де Бенуа 28
Денонсация евроцентризма в исторической социологии 30
Синтаксис гегемонии/синтаксис контргегемонии 33
Глобальная революционная элита 35
Ресурсы контргегемонии: «ревизионеры» миропорядка
и их уровни 37
«Политейя» в Теории Многополярного Мира 41
Однополярный момент и геополитика Ночи 48
Бифуркация: многополярность 53
Геополитика Ночи: новые существа
и сказание об антихристе 56
Хаорд и нелинейная версия американского империализма 61
Классический вектор американского империализма 61
Нелинейная Америка и геометрия нового антиамериканизма 66
Евразийский Союз и Евразийский диалог 67
Часть 2. Теория Многополярного Мира 73
Введение: многополярность — определение понятия
и разграничение смыслов 75
Первые подходы к разработке ТММ 75
Многополярность не является двухполярностью 79
Многополярность несовместима с однополюсным миром 81
Многополярный мир не является бесполярным 84
Многополярность не есть многосторонность 86
Обзор основных теорий Международных Отношений 91
ТММ и классические теории МО 91
Неомарксизм (третья парадигма) 102
От позитивистских теорий к постпозитивистским 110
Постпозитивистские теории в МО: основные признаки
и номенклатура 114
Статус постпозитивистских теорий в МО 127
Гегемония и ее деконструкция 130
Деконструкция воли к власти 132
Евразийская критика евроцентризма
и западного универсализма 133
Исторические метаморфозы гегемонии 134
Отвержение неолиберализма и глобализма 135
Критика марксизма (евроцентризм) 136
Критика универсализма в постпозитивистских теориях МО 137
Цивилизация как актор (большое пространство и политейя) 140
Теории С. Хантингтона: введение концепта «цивилизация» 140
Понятие «цивилизация» в МО 142
Расширенный спектр понятия «цивилизация» в ТММ:
определения 145
Цивилизация как субстанция
(онтологическая концепция цивилизации) 146
Цивилизация как процесс
(динамическая концепция цивилизации) 147
Цивилизация как система
(системическая концепция цивилизации) 147
Цивилизация как структура (структурно-функциональная /морфологическая концепция цивилизации) 148
Цивилизация как пайдеума (образовательная концепция
цивилизации) 148
Цивилизация как набор ценностей (аксиологическая концепция цивилизаций) 149
Цивилизация как организованное бессознательное (психоаналитическая концепция цивилизации) 149
Цивилизация как (религиозная) культура 150
Цивилизация как язык (филолого-лингвистическая концепция цивилизации) 150
Цивилизация как первая производная от этноса
(этносоциологическая концепция цивилизации) 151
Цивилизация как конструкт (конструктивистская концепция цивилизации) 151
Цивилизация как Dasein (экзистенциальная концепция
цивилизации) 152
Цивилизация как нормативное поле человека
(антропологическая концепция цивилизации) 152
Полюса многополярного мира /номенклатура цивилизаций 153
Православная (евразийская) цивилизация 155
Латиноамериканская цивилизация 157
Буддистская цивилизация 158
Карта потенциального многополярного мира 159
Цивилизации как конструкты 161
Координационный центр многополярности 163
Практика многополярного мира: интеграция 165
Преконцепт: цивилизация и «большое пространство» 166
«Политейя» в Теории Многополярного Мира 169
Теория Многополярного Мира и другие парадигмы МО 176
Релевантность реализма для ТММ 176
Релевантность либерализма для ТММ 178
Релевантность Английской школы в МО для ТММ 183
Релевантность марксизма и неомарксизма для ТММ 184
Релевантность критической теории для ТММ 187
Релевантность постмодернистской теории для ТММ 189
Релевантность феминизма для ТММ 191
Релевантность исторической социологии для ТММ 193
Релевантность нормативизма для ТММ 197
Релевантность конструктивистской теории для ТММ 198
Пример анализа многополярного мира в сравнении с постмодернистской интернациональной системой 199
Основные темы и сюжеты МО в контексте ТММ 204
Диалог и война цивилизаций 213
Дипломатия: антропология и традиционализм 216
Часть 3. Геополитика Многополярного Мира 229
Многополярность как открытый проект 231
Многополярность и «цивилизация Суши»
(Land Power) 231
Основания для существования «геополитики Суши»
в глобальном мире 232
Многополярность как проект миропорядка
с позиции Суши 235
Многополярность и ее теоретическое осмысление 238
Многополярность: геополитика и метаидеология 240
Многополярность и неоевразийство 241
Неоевразийство как планетарный тренд 243
Неоевразийство как интеграционный проект 244
К теории многополярности. Мировоззренческие основы 246
Теоретические основы многополярности. Философия множественности. Плюриверсум вместо универсума 246
Идейные истоки философии множественности 246
Ф. Боас: равноправие культур 249
Н. Трубецкой: альянс народов против навязываемого
универсализма 249
Актуальность философии множественности 250
Множественность бытия. Разное единство 251
М. Хайдеггер: поиск целого в «аутентичном Dasein’е» 252
Плюральная антропология.
Отказ от горизонта человечества 253
Э. Гуссерль, А. Мальро: «европейское человечество» 254
Запад и «все остальные» (The West and the Rest) 255
Признание человеческих различий 256
От плюральности мест к плюральности времен.
Философия и антропология места 257
Г. Гурвич: время как социологическое явление 258
Плюральность времен как норма 260
К теории многополярности. Стратегические основы 261
Полюса и «большие пространства».
Понятие полюса в многополярной перспективе 261
Понятие «большого пространства»
как оперативный концепт многополярности 264
Статус «цивилизация» и принцип «империи» 265
Структура идентичностей в многополярном мире.
Новая таксономия акторов 268
Китаро Нишида: «логика басё» и вопрос идентичности 270
Национальное Государство и многополярный мир 272
Четырехполюсный мир. Квадриполярная карта
альтернативного мира. Обращение к пан-идеям 273
Четвертая политическая теория
и четвертый номос Земли 276
Heartland в XXI веке. Россия как Heartland 279
Интерпретация Heartland’а в трех геополитиках 280
Место и роль России в многополярном мире 281
Практические шаги по строительству многополярного мира: основные ориентации. Многополярные оси 283
Реорганизация Heartland’а. Цели 283
Геополитическое сознание элиты 284
Западная стратегия Heartland’а. Heartland и США 284
Проект «Великая Восточная Европа» 288
Heartland и западные страны СНГ 289
Основные задачи Heartland’а в западном направлении 292
Южная стратегия Heartland’а: Евразийский Ближний Восток
и роль Турции 292
Вред национального эгоизма в российско-иранских отношениях и инструментальные мифы глобалистов 296
Афганская проблема и роль Пакистана 297
Среднеазиатский геополитический ромб 298
Основные задачи Heartland’а на южном направлении 299
Восточная стратегия Heartland’а:
Ось Москва–Нью-Дели 299
Геополитическая структура Китая 301
Роль Китая в модели многополярного мира 303
Геополитика Японии и ее возможное участие
в многополярном проекте 304
Северная Корея как пример геополитической автономии
сухопутного государства 306
Основные задачи Heartland’а на восточном направлении 306
Геополитика Арктики. Значение Арктики 307
Стратегическая безопасность России с севера 308
Институционализация многополярности 309
Трансформация современной структуры
международного права.
Уровни системы международного права 309
Переходное состояние современной системы
международного права 309
Правовой статус многополярности 311
Стратегия Национальной Безопасности Российской Федерации
до 2020 года 312
Критика однополярного мира В. В. Путиным и евразийские
тезисы 313
Игнорирование темы многополярности в российском
экспертном сообществе 315
БРИК: геополитика «второго мира» 317
Шанхайская Организация Сотрудничества
и ее геополитические функции 320
Интеграционные организации постсоветского пространства 322
Многополярный мир и Постмодерн 326
Многополярность как Постмодерн 328
Многополярный Постмодерн против однополярного
(глобалистского/антиглобалистского) Постмодерна 329
Многополярность и теории глобализации.
Многополярность против мировой политии 330
Многополярность и мировая культура
(в поддержку локализации) 330
Многополярные выводы из анализа теории
мировой системы 331
Превратить яд в лекарство. «Оседлать тигра» глобализации: многополярная сеть 333
Сетевые войны многополярного мира 336
Многополярность и диалектика хаоса 338
Библиография 340
Издательство
«Академический проект»
предлагает
Просим Вас быть внимательными и указывать
полный почтовый адрес и телефон /факс для обратной связи.
С каждым выполненным заказом Вы будете получать
информацию о новых книгах, выпущенных в свет
нашим издательством.
ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!
Издательство «Академический проект»
адрес: 111399, Москва, ул. Мартеновская, 3,
телефоны: +7 495 305 3702, +7 495 305 6092,
е-mail: info@aprogect.ru.
книги по философии,
психологии,
истории,
культурологии,
геополитике,
а также учебную
и справочную литературу
по гуманитарным дисциплинам
для вузов, лицеев, колледжей.
Вы можете приобрести книги:
купив их в нашем
интернет-магазине
заказав их по телефону
+7 495 305 3702,
по факсу
+7 495 305 6088
или по электронной почте
Дугин Александр Гельевич
«Теория Многополярного Мира. Плюриверсум»
(учебное издание)
Группа допечатной подготовки изданий:
Исакова Т.В.,
Коновалова Т.Ю.,
Крылов К.А.,
Тюрин Е.Л.
Оформление:
А.Ю. Беляев-Гинтовт,
Е.Л. Амитон
Подписано в печать 06.03.2015. Формат 60 × 90/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22,0. Тираж 1000 экз. Заказ №
Издательство «Академический проект»
(общество с ограниченной ответственностью),
адрес: 111399, г. Москва, ул. Мартеновская, 3;
сертификат соответствия
№ РОСС RU. АЕ51. Н 16070 от 13.03.2012;
орган по сертификации РОСС RU.0001.11АЕ51
ООО «Профи-сертификат».
Отпечатано в областной типографии «Печатный двор»
(открытое акционерное общество),
адрес: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27.
По вопросам приобретения книги
просим обращаться в издательство:
телефоны: +7 495 305 3702, +7 495 305 6092,
факс: +7 495 305 6088,
e-mail: info@aprogect.ru, zakaz@aprogect.ru,
интернет-магазин: www.academ-pro.ru.
